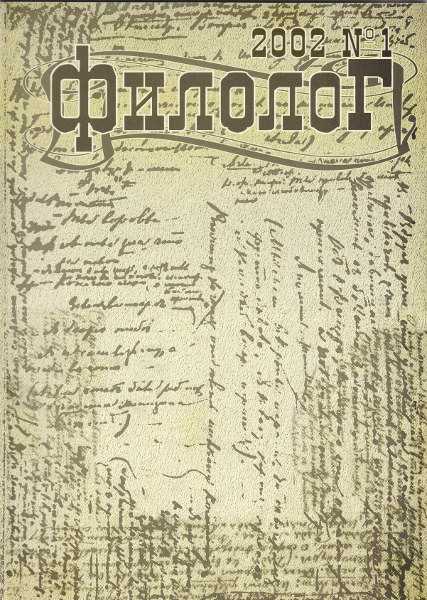Гоголевская «Шинель» — простая, но глубокая. Журнал шинель
Как сделана «Шинель» – Журнал «Сеанс»

— Повод нашей встречи — литературный, а именно — грядущее двухсотлетие Николая Васильевича Гоголя, в соавторстве с которым вы работаете уже не первый год. И сразу такой детский вопрос: почему «Шинель»? Почему Гоголь? Не Пушкин, не Чехов, не Толстой, не Достоевский?
— Ну, вы сразу начали называть великие имена… Я, не поверите, никогда не задавался вопросом: почему «Шинель»? «Шинель» и «Шинель», очередной фильм. Тут важно, чтобы фильм сам в тебе проявился. Не был навязан кем-то извне. Все мои фильмы именно так делались. Я взялся за «Шинель», потому что были какие-то личные ассоциации, которые нашли в ней определенное выражение. Свое переживание я вижу отраженным в том или ином произведении. Поэтому поводом для начала работы может быть все что угодно: музыкальное произведение или живопись, или произведение литературное, главное, чтобы обязательно работала система отражений. Гоголевский текст для меня — все равно, что библейская притча. Если бы в Библии была притча о некоем Акакии Акакиевиче, в этом не было бы ничего удивительного. Так что для меня обратиться к тексту Гоголя так же естественно, как для художника писать на религиозную тему.
— Как происходит у Вас процесс воссоздания себя из чужого текста?
— Для меня гоголевский текст — либретто. А точнее, как я уже сказал, — притча. И это дает мне свободу сочинения внутри текста психологических ситуаций, которые могут косвенно отражать то, о чем думал Гоголь, и, в конце концов, то, о чем думаю я. В данном случае я становлюсь полноправным соавтором, а не человеком, который, как охотничья собака, напал на след текста.
Если видишь в тексте Гоголя притчу, заведомо освобождаешься от ненужных литературных под- робностей. Подробности эти — безусловно, изумительные. Но они становятся балластом и не дают двигаться, когда ты начнешь с текстом работать. Поскольку качество текста очень высокое, они не дадут тебе возможности быть свободным. А когда ты работаешь, то должен быть свободен от текста. Вы знаете, самое ужасное — это сочинить идею и потом двигаться в ее направлении. Это всегда заканчивается плохо — жестким художественным произведением, а искусство (если перевести на язык математики) есть система сложения вещей вероятностных. И эта вероятностность должна быть до конца сохранена. Ты не можешь дать себе окончательный ответ. Если меня спросят: «Что ты хочешь сказать?» — я, конечно, отвечу, и я себе на этот вопрос отвечаю ежедневно. Но эти ответы каждый день меняются. Не меняется лишь покойник. Все должно находиться в постоянном движении, минуя ту мертвую точку, которая называется идеей. И вот еще важный момент: в литературном произведении, если ты задействуешь его в кино, должна быть внутренняя музыкальность, которая не дает возможности обольститься правдоподобием. Когда начинается правдоподобие, ты приходишь к очень жесткой форме — работать в таком режиме, конечно, удобней, чем в ситуации волнения, растерянности и сомнения. Но вероятность того, что ты откроешь для себя что-то новое, гораздо выше.
— Как в таком случае соотносится сценарий фильма с первоисточником и самим фильмом?
— Изначально мы писали вместе с Петрушевской. Но сценарий к «Шинели» и сценарием-то назвать нельзя. Это было скорее эссе по поводу «Шинели». Был бы жесткий сценарий, я бы от него ушел. Я всегда ухожу от сценария! Обработанное другим автором действие для меня теряет смысл. Я должен придумать сам, обязательно. Оно от меня должно идти, я не могу присоединиться к кому-то другому, это не мой трамвай. Когда перед съемками мысленно просматриваешь сцену, которую будешь снимать, может появиться деталь, которая вдруг перевернет весь сценарий. Это как качание маятника, постоянное движение, сомнение, целый рой сомнений, который гудит в голове. В какой-то момент просто наступает необходимость снимать, и ты должен на чем-то остановиться — вот это самое трудное. Придумать-то просто — сложно отказаться от огромного количества вариантов. Даже начав снимать, ты не знаешь, будет сцена развиваться согласно замыслу или нет. Может быть, ее вообще придется выбросить. У меня почти с каждым фильмом так было. Никто не знает, какое количество бумаги я истратил, чтобы прийти к каким-то результатам.

— В чем же тогда смысл сценария?
— Он должен быть первотолчком, дальше я должен придумывать сам. На съемках «Шинели» так и произошло. Мы начали снимать, и вдруг появился эпизод, огромный по размеру (15 минут) — «Акакий Акакиевич дома», с подробностями почти молекулярными. Его не было в сценарии, он возник сам по себе. И когда я стал этот эпизод рассматривать, то понял, что, собственно говоря, это единственный эпизод, где Акакий Акакиевич сам по себе, где он живет в своем собственном космосе. Его микромир должен быть бесконечным, и я, как Марсель Пруст, мог бы это время множить и дробить, множить и дробить, дробить и множить. Работая над этим эпизодом, я как-то пытался соотнести его с тем, что будет до и после, пытался понять, как соотнесется с ним случившаяся с Акакием Акакиевичем драма. Именно этот эпизод стал необходимой для меня изначальной площадкой, на которую я могу поставить ногу, чтобы двигаться дальше. Для кино, кстати, такой принцип работы неприемлем. Кино, в отличие от мультипликации, дорогостоящая штука. Хотя… когда ты находишься в предощущении чего-то другого, чего ты сам не делал и не видел ни у кого, в предощущении иной игры, иной разработки, иного отношения к изображению, когда не годятся предыдущие схемы и любой сценарий летит к чертовой матери, — иначе поступать невозможно.
— Почему в анимации так редко предпринимаются попытки экранизировать серьезные литературные произведения? Казалось бы, форма благоволит…
— Думаю, это связано с психологией отношения к мультипликации, которая часто понимается как искусство исключительно для детей. Почему бытует такое мнение, понятно — ребенок через линии лучше воспринимает мир. Кроме того, мультипликация метафорична. Впоследствии, освоив себя как искусство, обретя технологический комфорт, мультипликация начала разрабатывать другие темы. Отдельные режиссеры стали пытаться говорить о вещах более сложных и на языке более сложном, чем тот язык, на котором мультипликация разговаривала с детьми. Это вполне естественно. Но сегодня мультипликация, став совершенным технологическим процессом, кажется Титаником, который когда-нибудь нарвется на большой айсберг. То, что сейчас происходит в анимации, катастрофично: она обольщена правдоподобием. Мы теряем критерии, все дальше и дальше уходим от себя, от искусства метафоры, искусства образа. А чем мощнее за искусством образный, метафорический язык, тем мощнее само искусство. За мультипликацией сейчас в этом смысле пустота.

— Кто для вас Гоголь в отрыве от текста «Шинели»? Уверена, что все биографическую классику вы читали — и Вересаева, и Набокова, и Розанова…
— Я никогда не читал столько о Гоголе, сколько во время работы над «Шинелью». Естественно, мне попалась книга Вересаева (довольно плохо изданная). Но меня не очень интересовали подробности его жизни. Мне достаточно было нескольких деталей, к которым я потом часто возвращался. Несколько деталей его учебы в гимназии, описанных Вересаевым: какой он был звереныш, как он забивался в угол, как старался привлечь к себе внимание, как у него, по воспоминаниям соучеников, постоянно текло из уха, текло из носа, очевидно, от него дурно пахло… Но при этом уже тогда у него было одно гениальное преимущество — он сочинял так, как никто из его одноклассников. Никого равного ему именно в «момент литературы» не было. Так он себя спасал, возвышал. И это желание возвыситься проходит через всю его жизнь — чего стоит одна история знакомства с Пушкиным! Гоголь, молодой человек из провинции, дает своим родителям для писем адрес Пушкина (якобы он у Пушкиных живет), чтобы показать, какое место он занимает в Петербурге. Это уже хлестаковщина какая-то. Она в нем тоже была.
Впрочем, меня мало привлекают оценочные тексты о Гоголе. Не потому, что они плохи, а потому, что заслоняют от меня моего собственного Гоголя, представление о котором сложилось под впечатлением от его дивных текстов и изобразительных портретов (в первую очередь, конечно, это портрет Александра Иванова). От чтения таких текстов я глупею с каждой страницей. Потому что никакой анализ никогда не может быть сопряжен с творчеством. Никогда.
— Есть такая книга «Литературоведение как литература». Собственно, название ее о том, что интерпретация текста возможна лишь в том случае, если ты становишься с текстом на один уровень, отвечаешь на чужой творческий акт — собственным творческим актом…
— Да, именно так. Перед тем, как начать работать над «Шинелью», я прочел всего Гоголя от края до края. И вот что я увидел: я увидел музыкальные рифмы, я увидел строение фраз, музыкальные отзвуки в них. Каждое предложение — как режиссерский эпизод. От «Сорочинской ярмарки» — через «Петербургские повести» и дальше к «Мертвым душам» и «Шинели» — я увидел эхо музыкальных параллелей, повторов, вариаций. В сущности, Гоголь для меня — это единое огромное музыкальное произведение, где музыкальные темы варьируются в той или иной степени и соединяются по-разному в каждом новом сочинении. Это мне дает больше, чем рациональная картина жития самого Николая Васильевича. И жития его героев. Вот, например, "Коляска«…
— Помню, вы говорили, что это чуть ли не самое любимое ваше произведение у Гоголя…
— Да, это одно из счастливых его произведений. Сколько бы я ни читал (а я уже почти наизусть знаю гоголевские тексты), испытываю неизменное наслаждение, предвкушая, что сейчас появится вот это предложение, а потом вот это. Как в детстве — тебе читают знакомую сказку, а ты уточняешь текст, если что-то вдруг пропустили. Дети ведь готовы десятки раз слушать один и тот же рассказ, зная его наизусть. Мое «счастливое» чтение «Коляски» открывало для «Шинели» пространство и дало ей даже больше, чем работа с текстом «Шинели». Но вообще к пониманию Гоголя я прихожу не через внимательное прочтение, а через обстоятельства съемки. Когда меня неизменно спрашивают, почему я так долго снимаю «Шинель», я могу сказать лишь одно в свое «оправдание»: снимая этот фильм, я столкнулся с тем, что многие российские чиновники, того или иного ранга, ведут себя как истинные гоголевские персонажи, в полном согласии с текстом. Так что тут я попал просто в замкнутый круг.
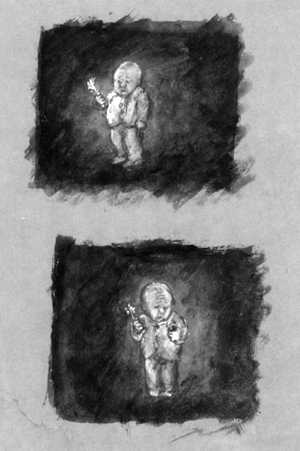
— Внутрь сюжета, иными словами.
— Вся моя работа над «Шинелью» — это сплошная гоголевская история. Ни один фильм не делался так трудно. Начались неприятности еще в 81-м году, когда съемки фильма были приостановлены волевой чиновничьей рукой. Можно, конечно, списать все на Гоголя: с ним часто происходят такие мистические странности. Например, мне рассказывали, что когда была премьера «Ревизора» в Доме кино (это было сравнительно недавно, лет 15 назад), прорвало трубу и просмотр пришлось прекратить. В таких случаях сразу начинают искать мистику. Ищут какую-то потусторонность там, где, на самом деле, присутствует именно человечность. Для Гоголя этот момент «человечности» очень важен, он фактически ведет проповедь «человечности» в каждом своем произведении. Я не говорю о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (я небольшой поклонник этого сочинения), но даже в «Шинели» в лирических отступлениях эта проповедь звучит. Гоголь часто как автор появляется среди своих персонажей и оценивает их. Он появляется, как нахальный режиссер, который может во время спектакля выйти на сцену и обратиться к зрителям. Эти появления Гоголя прекрасны. Я акцентирую на этом внимание потому, что считаю, что у Николая Васильевича была невероятная жажда уйти от чертовщины и прийти к простым человеческим знаменателям, к простым вещам. Жажда найти простые модули человеческого поведения, которые дадут ему возможность существовать в нормальном человеческом пространстве. Также и Достоевский. Не случайно, что у него Христос Гольбейна — это синоним полной мертвечины, и не случайна фраза князя Мышкина: «От этой картины у иного вера может пропасть». А любил, кстати, Достоевский сады Клода Лоррена, где пространство абсолютно бесконечно, где легкий воздух, и терпеть не мог Петербург, это был для него город дьявольский, город-наваждение. Толстой, который не мог свою внутреннюю гармонию соотнести с тем ужасом и хаосом, что был вовне, просто ушел. Как король Лир. В этом историческом споре Шекспир его победил.
В Гоголе заложено это невыносимое ощущение внутренней гармонии, которое невозможно соотнести с тем, что происходит вокруг. Заложена неспособность обрести именно внешнюю гармонию. Это чувство раздирает любого человека. По высокому счету — мы все стремимся к гармонии, но не получается. Поиски гармонии не только в себе самом, но и в окружающем мире естественны. Поэтому Достоевский и любил пейзажи Клода Лоррена, где все настолько в ладу одно с другим, что начинает звучать какая-то небесная музыка. А Николай Васильевич, который описывал целые города будущего? А его рисунки? Эта вязь бесконечных соединений одного с другим: точка живой жизни, от которой расходятся облака жизни. Такая графика не случайна. И основная тема «Шинели», как мне кажется, поиск вселенской гармонии, который оборачивается в итоге вселенской катастрофой.

Материалы по теме
seance.ru
Журнальный зал: Волга, 2016 №3-4 - Вадим Месяц
Вадим Месяц родился в 1964 году в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Автор множества публикаций в литературных «толстяках» («Урал», «Знамя», «НЛО», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Крещатик» и др.) и более пятнадцати книг стихов и прозы. Лауреат премии New Voices in Poetry and Prose (1991, USA), Бунинской премии (2005), премии им. П.П. Бажова (2002), финалист Букеровской премии (2002) и др. Организатор «Центра современной литературы» в Москве и руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». В «Волге» публиковались стихи (2015, №7-8). Живет в Москве.
Преступление и наказание
Я бы много дал, чтоб перечитать свою первую работу по Достоевскому. Самое радикальное произведение моей жизни. Школьное сочинение, за которое я получил двойку за содержание и тройку за грамотность. Я горжусь этим результатом до сих пор. «Преступления и наказания» я не читал: писал согласно внутреннему чутью. С проблематикой был более-менее знаком. То ли понаслышке, то ли по телефильму. Раскольникова не осуждал. Если бы перед убийством он зашел ко мне, я бы сказал ему: решай сам. У каждого дела есть свои плюсы и свои минусы. Это было главной мыслью сочинения. Раскольникова могли ждать великие дела. Зачем я буду наступать на горло его песне?
Я считал, что все мои сочинения должен украшать звучный эпиграф. Цитаты я выдумывал сходу и неизменно подписывал их Проспером Мериме. «Человек – сложное, но нежное существо». Проспер Мериме. «Все люди – братья, но братья двоюродные». Проспер Мериме. Для Достоевского я решил использовать народную поговорку, которую тоже мог знать эрудированный Проспер. «Старость – не радость», написал я, намекая на возраст процентщицы. В тексте много распространялся про Свидригайлова, расспросив о нем у соседки по парте. На всякий случай сравнил Сонечку Мармеладову с Марией Магдаленой. Других фамилий, встречающихся в романе, не помнил. Раскольниковым откровенно восхищался. Считал, что это человек поступка, раскисший от христианских предрассудков.
Меня вызвали к завучу. Фелицата Андреевна, небольшая горбатая женщина с крашеными волосами, спросила:
– Почему ты не явился, когда я вызывала тебя месяц назад? – оглядела меня. – Почему в джинсах?
– Усов из 10 «А» сломал мне нос, – сказал я правду. – Он – каратист. Я не мог появиться перед вами в таком виде. У меня затекли оба глаза.
Она рассказала мне про ударную комсомольскую стройку БАМ.
– Понял? – спросила она после внушительной паузы. – Вот как люди живут. Им не до заграничных пластинок.
– Понял, – сказал я и уже был готов удалиться, как в учительскую ворвался красномордый физрук и радостно сообщил, что я завалил спортивную работу.
– За весь год ни разу у меня не появился, – сказал Петр Иванович.
– Я занимался спортом, – ответил я. – Чтобы поднять общий моральный дух. На личном примере.
В комнате появилась учительница литературы с моей тетрадью в руке. Экзекуция продолжилась по нарастающей. Как? Почему? Какое имеешь право? Разговор получился пугающе долгим. Я улыбался. На следующий день начинались весенние каникулы.
Каникулы мы с Сашуком провели правильно. Отдыхали. Встречались погулять-покурить. Вечером шли смотреть «Капитана Врунгеля». К концу недели решили наведаться в Лагерный сад, где у памятника павшим стояли наши товарищи по школе с деревянными автоматами. Дело ответственное: к вечному огню брали лучших. Мы с Лапиным к таким не относились.
Сашук щелчком отшвырнул сигаретку в почерневший снег и победоносно высморкался. Мы стояли у подножия монумента, где огромная каменная Родина-мать протягивала винтовку своему каменному сыну. У их ног жалкими лилипутами стояли в синих шинелях юноша и девушка из восьмого «А» класса. Оба были симметрично прыщавы и серьезны. Мы поднялись по гранитным ступеням и засмотрелись на столбик огня, вырывающийся из металлической пятиконечной звезды. Горелка тревожно гудела. К памяти защитников отечества мы относились с уважением. К почетному караулу пиетета не испытывали.
– Как служба? – спросил Сашук дружелюбно. – Не надоело?
Сторожа воинской славы молчали. Мы спустились с постамента и направились к казарме Поста номер один, где надеялись повстречать одноклассников. Березы наливались белизной в предчувствии скорой весны, сугробы по краям дорожек стали пористыми и твердыми. Навстречу нам бежали наши друзья в униформе, с муляжами автоматов Калашникова в руках.
– Как дела?
– Нападение на Пост номер один.
Мы не сразу поняли, что речь идет о нас. Оказалось, нападение совершили мы. Они пришли за нами. Застава – в ружье. Наиболее активным оказался руководитель почетного подразделения, Петр Львович Шаповалов. Мужчина тридцати пяти лет. Комсомольский чин. Он отдавал обрывистые приказания:
– Взять их, – заорал он, когда понял расклад, а соображал он быстро.
Мы тоже врубились, что к чему, и побежали в сторону реки. Путь для отступления в город был отрезан. На Томи велись строительные работы по укреплению набережной. Край обрыва был срыт экскаваторами: внизу вторым ярусом проходила дорога. На нее мы и скатились, благополучно найдя детскую горку. Драпанули в сторону утесов, надеясь найти спуск к реке. Неутомимый Львович ринулся за нами. Он вошел в раж и буквально задыхался от бега и азарта погони.
Я был в клешеных полосатых брюках из местного ателье, тяжелом полушубке и каблукастых сапогах с расстегнутыми молниями, чтобы наполовину заправлять в них брюки: для понта. Правый сапог свалился с моей ноги, и я растянулся на накатанном льду в полный рост. Поднял глаза и увидел, как на склоне мои товарищи встали в ряд по его периметру. Чтобы и муха не проскочила. Вид у них был удушающе серьезный. Они были похожи на карателей из кинофильма про фашистов.
Шаповалов настиг меня в двух обезьяньих прыжках и попытался скрутить за спиной руки. Я увернулся и сел на дороге, глядя на его живот в синей олимпийке. Он помог мне подняться и заорал вслед Сашуку:
– Я поймал твоего друга. Если у тебя есть совесть – остановись.
На мартовском речном ветру это звучало забавно. Лучше бы у Сашука не было совести. Лапин остановился, почувствовав, что его не преследуют. Встал поодаль.
– Че тебе надо? – прокричал он. – Мы тут гуляем.
– Прогулка закончена, – пробормотал Шаповалов.
Сашук нехотя подошел к нам:
– Че надо?
Мы поднялись наверх, цепляясь за маленькие елки и выступы скал. Люди в шинелях окружили нас. Глаза их горели ненавистью, Сережа Риттель ткнул меня в спину автоматом.
– Попались, – сказал он.
Чем их там накачали? Явно не «капитаном Врунгелем». Нас привели к основанию памятника. Караул у вечного огня еще не сменился. Прыщавая девочка из восьмого «А», завидев нас, горделиво достала из кармана черный радиопередатчик с длинным штырем антенны. Подъехали менты на желтом уазике. Одноклассники запихнули нас в решетчатый отсек лунохода. Отъезжая, мы смотрели из заднего окна на товарищей в синих шинелях, на бесцветный в солнечный полдень вечный огонь, на огромный памятник, роняющий бесформенную тень на главную аллею парка.
В молодости я соображал быстрее, чем сейчас. У меня был полушубок с брезентовым верхом. В кармане – нож с выбрасывающимся лезвием. Я нажал на кнопку, быстро вспорол карман и переместил нож за подкладку на задницу. Финка эта счастья никому не приносила. Ее бывший владелец, актер драмтеатра, чуть было не сел из-за нее за хранение оружия.
В милиции нас допросили и провели обыск.
– Вы учитесь в той же школе? – прояснил лейтенант ситуацию. – Это упрощает дело.
Первым он обыскивал Сашука. Из-за рваного шрама на шее вид у него был более криминальный. Он выложил на стол надорванную пачку сигарет «Солнце», спички с изображением кролика на коробке. Укоризненно покачал головой. Я достал из кармана головку репчатого лука и бутылек с «тройным» одеколоном. Лейтенант встрепенулся:
– Ну-ка дыхните.
Мы не без удовольствия подышали ему в лицо табаком.
– Зачем вам одеколон?
– Люблю его запах, – сказал я. – В приличном обществе надо хорошо пахнуть.
Нас отпустили минут через десять. Мы тут же вернулись к вечному огню и провели сеанс пантомимы с неприличными жестами для наших обидчиков. Юноша и девушка из восьмого «А» по-прежнему стояли на посту. Мы немного покривлялись и довольные разошлись по домам.
Политинформации проходили у нас в четверг. В 8:30 утра. Начало занятий попало именно на этот день. Обычно Грайф рассказывал про Никарагуа и наш подводный атомный флот. На сегодня тема лекции изменилась. Моисей Максович был бледен, руки его самопроизвольно застегивали и расстегивали верхнюю пуговицу на пиджаке.
– Ребята, прошу внимания! – сказал он, наконец. – В нашей школе произошло ЧП городского масштаба. – Он тяжело замолк, собираясь с мыслями. – В понедельник, 30 марта в 11:30 утра два распоясавшихся юнца, иначе я не могу их назвать, совершили нападение на Памятник славы в Лагерном саду. Они его осквернили. Лапина и Месяца прошу встать.
Мы нехотя поднялись, заскрипев стульями. Моя подруга, когда я встал, нежно обняла меня за ногу.
Грайф рассказал, что у вечного огня мы оба курили, лузгали семечки и матерились. Действительности это не соответствовало, но мы не стали спорить.
– У меня дедушка воевал с 39-го по 46-й, – сказал я. – Сейчас сидит в инвалидном кресле. Парализовало в прошлом году. Зачем мне осквернять памятники?
Временной отрезок службы деда не понравился Моисею еще больше. Он с семьей был сослан в Сибирь из Черновцов после аннексии Западной Украины, но об этом не распространялся.
– И это еще не все, – продолжил он. – Вчера ученик Лапин вместе с учеником девятого «А» класса Евгением Штерном пронесли на территорию Поста номер ящик вермута и устроили безобразную пьянку. Я считаю это спланированной идеологической диверсией. Я просто не могу подобрать слов для поведения этих подонков.
Мы учились в немецкой школе. Еще недавно здесь преподавали ряд предметов на немецком языке. Сейчас остался только технический перевод и немецкий. Политические казусы случались. Несколько месяцев назад были пойманы ребята из десятого класса, которые носили значки с изображением Гитлера на внутреннем лацкане пиджака: подарок от ровесников из Германской Демократической республики. Зимою нашумела история с моей женитьбой в поезде Новосибирск-Ташкент, куда мы ездили на каникулы с классом. Со свадебными тостами, кольцами, первой брачной ночью. Осквернение памятника стало восклицательным знаком моей карьеры. Мне было пятнадцать лет. Я уже достаточно прославился и был популярен.
В мае начались отчетно-перевыборные комсомольские собрания. Выступающие рассказывали об успехах нашей школы, об отличниках и спортсменах. Если нужно было подчеркнуть отдельные недостатки, речь заходила о нас с Лапиным. Мою фотку сняли с доски почета, благодаря чему она сохранилась до сегодняшних дней. Шили аморальное поведение, осквернение святынь, покушение на социалистическую законность. Как вообще можно осквернить святыню, если она святая? На то она и святыня, чтоб стоять в веках, невзирая на наши шалости. Зарубить топором старушку – преступление, а полюбить одноклассницу или поиздеваться над дураками – благое дело.
Мы сидели с Лапиным вместе, добродушно слушая речи наших товарищей. Процедура есть процедура. На процедуру не обижаются. У Лапина в кармане лежал бычок от длинной папиросы «Казбек», он вонял на весь зал. Учительница литературы, сидевшая рядом, сделала Сашуку замечание:
– От вас пахнет, как от табачной лавки, – сказала она.
И тут Сашук вскипел:
– Вы когда-нибудь были в табачной лавке, Виктория Павловна? – возмутился он. – Там пахнет совсем по-другому!
Она оскорбленно пересела подальше от нас. Через час мы сидели в подвале дома Аньки Чернышевой и вместе с Лапиным и Штерном пили вермут. Я сдернул пробку своим знаменитым ножом и хохоча спросил:
– А что бы на это нам сказал Проспер Мериме? Кто это такой, кстати?
Шинель для Лейбы
Внешне он был похож на Троцкого. Лейба помог мне с переездом, когда у меня не было ни машины, ни денег. Я пришел в офис к Эрику Кунхардту спросить, что у них делают, когда съезжают с квартиры.
– Полечу на родину. А мебель куда девать?
Эрик увлеченно стучал по клавиатуре. Поднял на меня глаза и вновь ушел в компьютер.
– Ты много ешь, – сказал он, наконец. – Ты стал толстым, Дыма. А переехать тебе помогут мои студенты.
Была весна. Цветущие яблони хорошо смотрелись на фоне красного кирпича нашего кампуса. За окном лежал недвижный Гудзон с фанерной панорамой небоскребов Манхэттена. Внизу шныряли разноцветные международные студенты. В тот год я увлекался индусками, но они не могли перетаскивать тяжелые вещи. И вообще я не хотел никому говорить, что уезжаю.
Эрик дал мне бригаду из двух человек. Про одного я уже сказал. Имени второго не помню. В прокате у Голландского туннеля мы взяли фургон, быстро погрузили в него кровать, шкаф, стол и стул и отвезли их в подвал одному знакомому. Тот сочувствовал России и был готов поделиться местом на своем складе.
– Ты когда-нибудь был в суши-баре? – спросил меня Лейба, когда работа была закончена. – Я балдею от японской кухни.
– В баре был, а в суши нет, – ответил я честно. – Но тоже балдею.
Место располагалось на центральной улице. Сырая рыба недавно начала свое победоносное шествие по миру и даже здесь пока что считалась экзотикой. Мы сели втроем у стеклянной витрины с видом на город, заказали по бутылке «Саппоро».
– Это специальный лосось, – сказал Лейба важно, когда нам принесли большой поднос с ассорти из суши, сашими и вегетарианских роллов, – не вздумай употреблять рыбу из наших супермаркетов в сыром виде. Можно заразиться описторхозом.
Про паразитов, передающихся от рыбы человеку, я знал, но вежливо кивнул и продолжил обучаться есть рис палочками. С роллами справился быстро, но рис мне никак не давался. Соевый соус и имбирь как продукты питания были мне знакомы по Дальнему Востоку, поедание сырой рыбы меня смущало мало. Мне понравилась васаби. Коллеги прочитали познавательную лекцию и о ней.
– У нас это называется чушь, – сказал я, вспоминая недавнюю молодость. – Чушь, суши – похожие слова. Одно и то же. Только в Сибири сырую рыбу едят с уксусом и перцем.
Я рассказал, как режут на деревянном столе кострюка, только что снятого с самолова. Как он пляшет среди граненых стаканов с водкой, извивается змеиным телом и бьет хвостом. И какая у него костяная голова. И как это красиво.
– Осетровые – родственники акул и ихтиозавров, – закончил я. – У них в процессе эволюции даже не сформировалось позвоночника.
– Все-таки русские - живодеры, – протянул Лейба, и они с другом переглянулись. – Вы едите рыбу живьем?
– Только по праздникам, – ответил я.
Мы перешли к разговору о женщинах. О том, что для быстрейшего достижения результата надо создать романтическую обстановку. Лейба поделился с нами несколькими случаями из личной жизни.
– Я зажег свечи, – сказал он. – Поставил алую розу в бутылку из-под шампанского. Мы недооцениваем мелочей, а женщины устроены по-другому. Они любят такие штучки. Цветы, музыка, галантное обращение.
Поспорить с ним было трудно. Тему пришлось вскоре сменить, потому что к нам присоединились Эрик и его сосед Норман, толстый, скучный старик, в подвале у которого я оставил свою мебель. Норман недавно побывал в Санкт-Петербурге и взахлеб рассказывал теперь о России.
– Почему вы считаете, что идея ваучеров порочна? – сказал он, обращаясь к присутствующим. – Ведь она верна. Если раньше все принадлежало государству, то после приватизации надо разделить общественную собственность поровну.
Мы испуганно замолчали. Норман тоже посетил суши-бар впервые, но сырую рыбу есть отказался. Эрик, как настоящий витающий в облаках профессор, ел все, что ему дают, думая о чем-то своем. Ел и напевал какую-то мексиканскую мелодию.
– Я слышал, ты нашел себе girlfriend, Дыма, – посмеивался он. – Тебе было нужно идти не в японский, а индийский ресторан.
Мы вернулись к дамской теме. О политике говорить не хотелось. Лейба пересказал вновь прибывшим о преимуществах романтического свидания перед неромантическим. Развязалась оживленная дискуссия. Брутальных мужчин среди нас не было. Мы отдали им пальму первенства в искусстве обольщения. Норман прошелся по питерским проституткам:
– Сто долларов, – возмутился он. – Я просто подошел поинтересоваться. Сто долларов! Это как здесь. Она что, думает, что я не знаю шкалу цен? Не знаю, сколько стоит завтрак в гостинице? Теперь понятно, почему она ходит в такой дорогой шубе.
– Ты же недавно женился, – подколол его Эрик. – Мог бы сохранять супружескую верность хотя бы на первых порах.
Когда мы прощались, я спросил Лейбу, сколько я ему должен за ужин. Без его приглашения я бы в ресторан не пошел, но он помог мне перевезти вещи, накормил, рассказал о том, как нужно себя вести с женщинами.
– Ты знаешь, – ответил он тоном человека, уже давно принявшего решение. – Я тебя угощаю. Разве что хочу попросить об одном одолжении.
Я внимательно посмотрел на него и допил пиво.
– Привези мне из России офицерскую шинель. Если, конечно, это недорого. Я готов вернуть тебе за нее деньги. Хочу таким образом свести счеты с Красной армией.
Его прадед был родом из Российской империи. Какие-то исторические обиды остались. Лейба хотел отомстить России за страдания своего пращура. За то, что сам по вине прадеда оказался здесь и вынужден теперь помогать обнищавшим русским и кормить их японскими деликатесами.
В родном городе я зашел к знакомому полковнику в отставке, соседу по лестничной площадке. Он умирал от рака желудка. Последняя стадия. Мы обнялись, сели пить чай. Черкасов расспрашивал меня о заморской жизни. Я отвечал. Когда подоспел момент, поведал ему о просьбе Лейбы.
– Любят они все наше, – сказал он. – Офицерские часы. Черную икру. Девок наших любят. Только вот к «Беломору», наверное, не могут привыкнуть.
На мою просьбу он откликнулся радостно.
– Все равно я скоро помру, – сказал он. – А с Америкой у нас теперь дружба. Я рад за тебя. Шинелей у меня полный шкаф. Иди – выбирай. Как в магазине. Только парадную оставь, пожалуйста.
Шинелей у полковника оказалось четыре штуки. У одной супруга уже отрезала рукав для каких-то хозяйственных нужд. Мы достали полковничий гардероб и разложили его на небольшой двуспальной кровати.
– Хорошие, – сказал я, разглаживая короткий шерстяной ворс старинной военной одежды. – А ходить в ней удобно?
– Не понял.
– Ну они такие длинные. Я давно привык к курткам. И потом жесткие. Воротник колется, да?
– Ты, что, в шинели не ходил? – спросил меня полковник подозрительно. – Колется ему… Надень тогда шарф. Какого твой приятель размера?
Я примерял пиджак Лейбы. Мы с ним носили вещи одинакового размера. Это упрощало мою задачу. С Черкасовым мне тоже повезло: мы были одного роста и телосложения. Я надел шинель, посмотрелся в зеркало.
– Как будто на тебя пошита, – сказал полковник. И вообще тебе военная форма к лицу. Жаль, что ты не пошел в военное училище.
Мы вернулись к чаю. Старик притащил с балкона банку клубничного варенья. За чаем рассказал, что год назад к его дочери пришли устанавливать кабельное телевидение. Человек, представившийся монтером, оказался маньяком. Изнасиловал Надьку и её старшую дочь. Потом убил. И сам повесился в туалете. Четырехлетняя Анька три дня бродила среди трупов. Сейчас бабушка пошла за ней в детский сад. Если я еще немного посижу, будет шанс познакомиться.
Я горестно молчал, оглядывая скромную обстановку. Лакированная мебель из какой-то страны социалистического содружества, лосиные рога на стене, чеканка с обнаженной влюбленной парой. Надвигающаяся смерть, которую он принимает со смирением и безропотностью. Надьку я знал: мы обменивались с ней видеофильмами. Один раз она угостила меня большим шматом настоящего деревенского сала.
– Подожди-ка, мил человек, – вдруг сказал Черкасов. У меня и для тебя есть подарок. Я помру – а тебе пригодится.
Он удалился в спальню и принес кортик. Офицерский кортик. Предмет форменной одежды на флоте. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме и на парадах.
– Трофей, – объяснил он. – Настоящий. Немецко-фашистский. С подводной лодки.
– Вы решили так отомстить немцам?
– Что, Дим?
– Ну храните его. Будто изъяли…
Старик меня не понял. Я задумчиво взял кортик, вынул его из ножен, вложил опять. В часах проснулась кукушка. Она была пыльной и немного хрипловатой.
– А чья это шинель? – мне пришла в голову неожиданная идея. – Такая маленькая. Как детская…
– А, – засмеялся Черкасов. – Это у меня был в гостях майор Чижевский. Мелкий во всех отношениях человек. Вместе служили. Сейчас проворовался, торгует американскими сигаретами. Выпили. Опаздывал в аэропорт. На такси убежал прямо в кителе.
…Осенью я появился в офисе у Эрика Кунхардта. Поговорили о том, о сем. Тот собирался переходить в Бруклинский университет. Там больше платят. Когда появился Лейба, я вынул из рюкзака шинель.
– Вот. Только что с офицерского плеча, – сказал я ему. – Уникальная вещь. В России шинель как форму отменили. Перешли на полупальто.
Рукава оказались Лейбе чудовищно коротки, но он счастливо причитал и благодарил за подарок. Спрашивал о правилах химчистки. Маршировал по офису в шинели, застегивал и расстегивал ее. Поднимал и опускал воротник. Он чувствовал себя абсолютно отмщенным.
magazines.russ.ru
Изнанка шинели - Православный журнал "Фома"
«Шинель» — одно из самых известных произведений русской литературы. Но, к сожалению, эту великую повесть чаще всего воспринимают как попытку Гоголя обличить социальное зло. Однако в ней есть гораздо более глубокий смысл. Она обращена к каждому из нас и в иносказательной форме говорит о том, как грех разрушает человеческую душу.
Что происходит?
Сюжет «Шинели» прост. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин переписывает бумаги в департаменте, с кротостью сносит насмешки коллег, довольствуется малым. Но вот у него приходит в негодность старая шинель, и он вынужден приобрести новую. Копит деньги, отказывает себе во всем — и в итоге становится счастливым обладателем новой шинели. Но счастье длится недолго — Башмачкина, возвращающегося ночью из гостей, грабят, отнимают шинель. Он пытается хлопотать перед высоким начальством, чтобы помогли вернуть шинель, получает суровую отповедь, простужается, заболевает и умирает. Но после смерти становится привидением и по ночам отнимает шинели у прохожих: мстит за свою обиду. Ограбив таким образом генерала, отказавшего ему в прошении, привидение исчезает. Вот, собственно, и все.
Как это трактовалось?
Повесть «Шинель» была опубликована в 1842 году. Критики (и в первую очередь Виссарион Белинский) восприняли ее как жесткий социальный памфлет, как голос в защиту униженных и оскорбленных. Бедного Акакия Акакиевича трактовали как жертву несправедливой социальной системы, страдающую от бюрократии и произвола. После Гоголя эту же тему (страдания мелкого чиновника от бессердечия чиновников крупных) разрабатывали многие русские писатели. Известный литературовед Дмитрий Чижевский (1894–1977) в 1938 году опубликовал работу «О повести Гоголя “Шинель”», в которой насчитал более сотни рассказов и повестей на эту тему.

Иллюстрации Максима Корсакова
Поэтому фраза, ошибочно приписываемая Достоевскому*, «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» в определенном смысле верна: действительно, «Шинель» породила целую литературную традицию.
Такая трактовка «Шинели» перешла и в советское литературоведение, а из него, конечно, в школьный курс литературы. И хотя советской власти нет уже четверть века, в современных школах чаще всего по инерции говорят то же самое. Вот и думают семиклассники, что Акакия Акакиевича потому следует жалеть, что он — жертва несправедливой власти.
Другой подход
Не все, конечно, были согласны с такой социально-политической трактовкой. В свое время замечательный русский писатель Борис Зайцев (1881–1972) писал о таких толкованиях: дьявол «напустил тумана в глаза и навел марево <…> на людей, казалось бы, обязанных Гоголя понять». А еще раньше, в 1847 году, известный поэт и литературный критик Аполлон Григорьев (1822–1864) писал: «…В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеленья Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного…»
Надо учитывать, что волновало Гоголя на момент написания «Шинели», чем он в те годы жил и дышал. А жил и дышал он православной верой. Известнейший исследователь духовного наследия писателя, протоиерей Василий Зеньковский, писал, что как раз в то время у Гоголя произошел «…духовный перелом, связанный с крушением эстетической утопии, перешедший потом в живую потребность религиозного понимания творчества и жизни». Насчет перелома, конечно, можно поспорить — другие исследователи полагают, что Гоголь всегда был глубоко верующим православным христианином, что его духовное развитие шло без резких поворотов, но вот что действительно очевидно — в 40-е годы XIX века Гоголя волновали вопросы религиозные: вопросы духовного делания, духовной борьбы. Он конспектировал святоотеческую литературу (читая ее, кстати, и на греческом), ежедневно молился (как отмечает доктор филологических наук Владимир Воропаев в своей книге «Духовная биография Гоголя», его молитвенное правило было куда обширнее, чем у большинства мирян).
И вот именно на таком фоне, в таком настроении Гоголь пишет «Шинель». Наивно было бы думать, что в повести не заложены все эти духовные вопросы. Дмитрий Чижевский вполне резонно замечает, что от «Шинели» «надо ждать попытки разрешения сложных психологических вопросов, а не простого повторения аксиом (“я брат твой”) и избитых истин (и “крестьянки, то бишь бедные чиновники, чувствовать умеют”)».
В постсоветское время на религиозную подоплеку «Шинели» обратили внимание многие ученые, специалисты по творчеству Гоголя — к примеру, С. А. Гончаров, В. А. Воропаев.
Духовная драма
Если говорить кратко, то «Шинель» — это притча, где в иносказательной форме показано, как человек — кроткий, смиренный, почти что безгрешный человек! — может впасть в грех, стать рабом своих страстей и погибнуть духовно. Вся внешняя сюжетная канва — то есть департамент, чиновники, переписывание бумаг, зимние холода в Санкт-Петербурге, портной Петрович, новая шинель, грабители, генерал, простуда, смерть — служит лишь декорациями, на фоне которых ставится духовная драма. Главное в повести происходит не на петербургских улицах, а в душе Акакия Акакиевича.
Попробуем разобраться, что же в ней происходит.
Почти святой
В начале повести Гоголь рисует нам Башмачкина как человека мало сказать скромного, но совершенно смиренного, беззлобного. «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. <…> Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. <…> Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним…»
Даже само имя его, Акакий Акакиевич, неслучайно. Здесь Гоголь, вполне вероятно, делает намек на подвижника Акакия из «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского — книги, ставшей классикой святоотеческой литературы, которую прочли если не все, то очень многие всерьез верующие люди. Послушание подвижника Акакия было столь велико, что даже после смерти тот не мог ослушаться своего старца. А удвоение имени, Акакий Акакиевич, — это, можно сказать, смирение в квадрате.

Иллюстрации Максима Корсакова
Герой «Шинели» — образец смирения, он абсолютно лишен тщеславия — порока, противостоящего смирению. В этом он радикально отличается от своих сослуживцев, стремящихся к почестям, выстраивающих карьеру.
Трудно не согласиться с доктором филологических наук Сергеем Гончаровым в том, что «…Акакий Акакиевич наделен чертами аскета-подвижника, “молчальника” и мученика… Убогость и “ничтожность” героя, его невзрачность предстают формами отъединенности от мира, его особой отмеченностью, знаком исключительности».
Заметим, что Гоголь, создавая перед читателем портрет Башмачкина, делает это с иронической интонацией, но на самом-то деле ирония тут не выражает авторского отношения к герою. Тут все тоньше — эта ирония иллюстрирует воспринимающее героя сознание. Гоголь как бы намекает читателю: вот так вы, люди обычные, приземленные, могли бы воспринять моего героя. Я показываю вам его вашими глазами. Таково ваше зрение.
Но вернемся к Акакию Акакиевичу. Тот не просто добросовестно исполняет свое дело, переписывание бумаг, — он исполняет его ревностно. Для него это смысл жизни, это дает ему высшую радость. «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрешнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра».
Символом чего является это переписывание? Символом служения, символом благословленного Богом труда, символом подчинения всего себя Промыслу Божиему.
Искушение святого Акакия
Тем не менее эта святость Акакия Акакиевича дала трещину. Когда у него возникла потребность в новой шинели (сама по себе вполне естественная, вовсе не греховная), то все свои душевные силы, все свои устремления он направил на эту шинель. Та оказалась для него не просто предметом одежды, а целью жизни, высшей ценностью. Вещь становится для него идолом. «Он <…> питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели». Акакий Акакиевич кардинально меняется: «С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась проходить с ним жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель».
Прежний образ жизни, прежние цели для него поблекли. Мы помним, какой радостью для него было переписывание бумаг. Теперь же, в мыслях о шинели, «Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул “ух!” и перекрестился». Вроде бы мелочь, но это знаковый момент, и мы еще вернемся к нему.
Пока же зададимся двумя очевидными вопросами. Во-первых, почему именно шинель? Почему именно такое искушение оказалось непосильным для Башмачкина? Во-вторых, почему он вообще оказался слаб, почему его прежняя «почти святость» не защитила его?
Грех нашего времени
Почему шинель? Вспомним, что перед нами не психологическая проза (в ее современном понимании), а притча. Повесть про Акакия Акакиевича — это не только и не столько про конкретного героя, тут надо искать иносказание. Акакий Акакиевич символизирует не просто человека как такового, но более конкретно — общество, современное Гоголю. Деньги и вещи — вот та страсть, которая была писателю особенно ненавистна. И дело не только в корыстолюбии, тут сложнее. Для человека, который предпочел внешнюю жизнь внутренней, духовной, вещь становится высшей ценностью, а значит, воспринимается уже не только «функционально», как средство решить ту или иную бытовую проблему, но как самодостаточная цель. Такой человек стремится к бытовому комфорту, стремится окружить себя удобными вещами. Но в этом своем стремлении к комфорту он реализует — неправильным, недолжным образом! — все силы своей души. Важный момент: обретя новую шинель, Акакий Акакиевич думает, что «В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо». В этом «хорошо» вся суть.

Иллюстрации Максима Корсакова
Акакий Акакиевич ранее смиренно сносил то, что другого повергло бы в отчаяние: тупик карьеры, издевательства окружающих, скудная пища, бедность, одиночество, отсутствие каких-то развлечений. Но вот искушения комфортом он не выдержал, тут его духовная броня треснула.
Почему именно тут? Потому что именно об этой болевой точке русского общества и хотел сказать Гоголь. Есть страсти извечные, присущие любым временам, — зависть, гнев, похоть, стяжательство и так далее, но бывает, что какие-то страсти особенно обостряются в ту или иную эпоху в силу господствующего в ней умонастроения. Таким умонастроением в 40-е годы XIX века стал если не массовый, то очень и очень заметный отход от Бога русских образованных людей. А свято место пусто не бывает, и потому высшей ценностью для них стало внешнее: карьера, богатство, комфорт. Повторим: сами по себе и карьера, и богатство, и комфорт не греховны, это просто условия жизни. Но грехом становится их обожествление.
Как раскололась сталь
А теперь попробуем разобраться, что же не так было со «святостью» Акакия Акакиевича, почему он сломался.
Есть в народе такое выражение: «свят, да неискусен». Это можно сказать и про Башмачкина. Его смирение, кротость — они даны ему изначально, как дар Божий, а не достигнуты сознательной работой над собой. Они — не результат следования за Христом, борьбы со своими страстями, наблюдения за своими помыслами, искреннего покаяния и, естественно, жизни в Церкви. Если душу Акакия Акакиевича и можно сравнить со сталью, то это не закаленная сталь, она хрупкая, и достаточно даже не сильного, но точного удара в нужное место, чтобы ее расколоть.
Тут, однако, можно возразить: раз уж «Шинель» — это притча, где о духовной жизни говорится иносказательно, то как же там может быть напрямую упомянуто о Боге, о вере? В правильной, классической притче ведь все это должно быть вынесено за скобки, чтобы читатель самостоятельно сделал нужные выводы.

Иллюстрации Максима Корсакова
На это можно ответить, что «Шинель» — произведение все-таки более сложное, более многогранное, чем просто притча, и в ней совмещаются как аллегория, так и психологически точное описание человеческой души. Нельзя сказать, что действие «Шинели» происходит in vitra, в стерильных, лабораторных условиях. События разворачиваются в конкретное время — 30-40-е годы XIX века в конкретном месте — Санкт-Петербурге. Соответственно, неявно предполагается, что есть и Церковь, и вера. Да почему неявно? Вернемся к эпизоду, когда, задумавшись о шинели, Акакий Акакиевич едва не допустил описки в тексте. Какова его реакция? Едва не вскрикнул «ух!» — и перекрестился. Крестится, кстати, и его квартирная хозяйка, когда в болезненном бреду Акакий Акакиевич нецензурно ругает обидевшего его генерала. Значит, какие-то бытовые проявления христианской веры, на уровне привычек, героям «Шинели» присущи. Следовательно, вполне допустимо ставить вопрос: а на более глубоком уровне?
А на более глубоком уровне Акакий Акакиевич о Боге не вспоминает, с христианских позиций свою ситуацию не оценивает. Ему даже в голову не приходит перекреститься, когда портной Петрович убеждает его потратиться на новую шинель.
И если уж вспоминать, что Акакий Акакиевич в «Шинели» интересен не столько сам по себе, сколько тем, что призван нечто символизировать, то заметим: символизирует он именно что отход от веры многих русских православных людей. Отход не громкий, не демонстративный, не на идейном уровне, а тихий, бытовой. Такие люди не то чтобы сомневаются в бытии Божием — они просто о Боге не задумываются, их волнуют совсем другие вещи. Красиво бумагу переписать… или новую шинель пошить.
Мысль Гоголя здесь совершенно очевидна: не думая о Боге, не сверяя свои поступки с Его заповедями, не прося Его о помощи, человек оказывается совершенно беззащитным перед грехом и перед соблазнителем.
Как действует страсть
В «Шинели» есть и соблазнитель — портной Петрович, который тоже ведь важен не сам по себе, не как «типичный представитель своей профессии», а как символ. А символизирует Петрович именно что сатану или, вернее, мелкого беса.
Знаков принадлежности портного к нечистой силе в повести Гоголя немало. «Одноглазый чорт», — называет его жена. Ей вторит рассказчик, говоря, что Петрович, бывая «в трезвом состоянии <…> крут, несговорчив и охотник заламывать чорт знает какие цены», да и герой вспоминает, что «…за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чорт знает какую цену…», сидит Петрович «на широком <…> столе», подвернувши «под себя ноги свои как турецкий паша», а в руках у Петровича «круглая табакерка с портретом какого-то генерала, какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». В связи с этим Дмитрий Чижевский в своей работе «О “Шинели” Гоголя» замечает: «Чорт безлик!» И далее продолжает: «Начитанный в религиозной литературе, знаток и собиратель фольклорного материала… Гоголь, конечно, знал об этой безликости чорта в христианской и фольклорной традиции».
Кто-то, возможно, воспримет этого «чорта» просто как фигуру речи. Но художественный прием в том и заключается, что, повторяя раз за разом «фигуру речи», писатель воздействует на сознание читателя, понуждая его вспомнить исходный смысл этого затрепавшегося слова. Кроме того, для нас, современных людей, «черт» не кажется каким-то особым словом, а вот во времена Гоголя это было крепким выражением, на грани неприличия. Можно вспомнить момент из «Мертвых душ»: «Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей чорта.
Чорта помещица испугалась необыкновенно. “Ох, не припоминай его, Бог с ним!” —вскрикнула она, вся побледнев».
Символично и то, что олицетворяющий черта Петрович — именно портной, то есть изготовитель вещи, которая теперь становится судьбой человека.
Гоголь подробнейшим образом описывает, как Петрович обольщает Акакия Акакиевича и как поначалу тот сопротивляется: «хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но…» — но растерялся. Не вспомнил о Боге, не помолился хотя бы мысленно, не перекрестился — и потому его сопротивление быстро было сломлено.
А когда оно было сломлено, то у героя началась новая жизнь — «как во сне». Акакий Акакиевич уже не контролирует себя. «…вместо того, чтобы пойти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не замечая». Это слово здесь важно. Казалось бы, уместнее было написать «противоположную», но Гоголь хотел показать, что герой лишился своей воли и что с ним происходит именно то, о чем предупреждал апостол Павел: ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех(Рим 7:15–17).

Иллюстрации Максима Корсакова
Чем больше мечтает Акакий Акакиевич о новой шинели, тем сильнее меняется его образ жизни. Мало того, что он теперь жестко экономит каждую копейку — но и прежнее дело перестало приносить ему радость. Раньше он брал со службы бумаги домой и переписывал — теперь перестал это делать и проводил время в праздности. Теперь после обеда он «уж ничего не писал, никаких бумаг, а так…», «сибаритствовал на постеле…». Если раньше он ходил по улицам, ни на что не обращая внимания, то теперь засматривается на витрины.
Причем нельзя даже сказать, что у Акакия Акакиевича появились какие-то новые интересы, что ему открылись какие-то новые горизонты жизни. Нет, его любопытство — скучающее. И скука все больше и больше заполняет его жизнь.
Особенно ярко это показано в сцене, где мечта, наконец, сбылась, новая шинель куплена, и сослуживцы устраивают по этому поводу вечеринку, куда и приглашают Башмачкина. Обратим, кстати, внимание, что если раньше, до новой шинели, они его либо не замечали вообще, либо издевались, то теперь, став обладателем новой шинели, он становится им интересен. То есть как человек, как личность он для них ничто, но как обладатель некой вещи приобретает в их глазах некую значимость. Очень характерная деталь.
Но куда важнее, что Акакий Акакиевич отправляется на вечеринку вынужденно. До того, как в его жизни появилась мечта о новой шинели, он поступал так, как ему хотелось, как ему свойственно, то есть был свободен. Теперь же, с новой шинелью, он открывает для себя существование светских условностей, которым приходится подчиняться через «не хочу». Ему не хотелось идти на эту вечеринку, но отказаться было бы неприлично. Он приходит туда — и сразу же ощущает себя в этой среде лишним: «Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно…»
Став пленником своей страсти, человек не только теряет свободу, не только оказывается вынужден вписаться в новый, чуждый ему формат жизни, но и никакой радости от этого не испытывает. Акакий Акакиевич, казалось бы, достиг, чего хотел, стал счастливым обладателем новой шинели — но очень скоро счастье его съеживается, в душе возникает пустота.
И просто огромной, зияющей дырой становится эта пустота, когда на обратном пути из гостей его грабят, отнимают шинель. Казалось бы, жизненной трагедии не произошло, его не убили, не искалечили, не пустили по миру, он «остался при своих», то есть мог бы жить, как и раньше — со старой своей драной шинелью, усердно переписывая бумаги. «Бог дал — Бог взял», мог бы он сказать себе. Но нет — потеря шинели стала для Акакия Акакиевича метафизической катастрофой. Потому что прежней своей невозмутимости, кротости и благодушия он уже лишился, прежний смысл жизни потерял, и это его ранит куда сильнее, чем петербургский холод. Его отчаянные попытки вернуть шинель, хлопоты, унижение перед «значительным лицом», а после, в горячечном бреду, бунт — это ведь попытки вернуть себе не материальную вещь, а именно что смысл жизни.
Но вернуть невозможно, потому что прежние свои ценности он сам в себе убил, вернуться в исходное состояние неспособен. Жить ему более незачем, и потому-то он простужается и умирает. Аллюзия более чем прозрачная: неискорененный грех порождает страсть, а страсть доводит человека до смерти — духовной, а затем и физической.
Смерть после смерти
Умирает тело, но душа умереть не может. Однако вне покаяния она вознестись к Богу неспособна, и потому призрак Акакия Акакиевича мечется в ледяном пространстве пустынного города и в злобе своей мстит всем подряд.
На первый взгляд эта месть кажется торжеством справедливости, но если вдуматься, то какая уж тут справедливость? Напротив, Гоголь достаточно ясно показал, чем обернется для человечества торжество «последних», которые стали «первыми». Бунт опустошенного человека страшен. По сути, Гоголь рисует здесь образ будущей русской революции, и мы слышим ее лозунг «Грабь награбленное!» В финале повести Гоголь показывает, как «преобразует мир» духовно опустошенный человек: «…и под видом стащенной шинели сдирая со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели». Тут уже слышатся крики героев из поэмы Блока «12»: «Эх! Эх, без креста! Тра-та-та!» Неслучайно на следующий день после завершения своей поэмы Блок записывает в дневнике: «…страшный шум <…> во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь».
***
Вновь повторим: повесть Гоголя не о бедном чиновнике, уничтоженном огромной государственной машиной. Она — о духовном тупике, в который зашло общество, забывшее Христа. Жаль, что до сих пор не все это видят.
Подготовил Виталий Каплан
Иллюстрации Максима Корсакова
foma.ru
Как сделана «Шинель» – Журнал «Сеанс»

— Повод нашей встречи — литературный, а именно — грядущее двухсотлетие Николая Васильевича Гоголя, в соавторстве с которым вы работаете уже не первый год. И сразу такой детский вопрос: почему «Шинель»? Почему Гоголь? Не Пушкин, не Чехов, не Толстой, не Достоевский?
— Ну, вы сразу начали называть великие имена… Я, не поверите, никогда не задавался вопросом: почему «Шинель»? «Шинель» и «Шинель», очередной фильм. Тут важно, чтобы фильм сам в тебе проявился. Не был навязан кем-то извне. Все мои фильмы именно так делались. Я взялся за «Шинель», потому что были какие-то личные ассоциации, которые нашли в ней определенное выражение. Свое переживание я вижу отраженным в том или ином произведении. Поэтому поводом для начала работы может быть все что угодно: музыкальное произведение или живопись, или произведение литературное, главное, чтобы обязательно работала система отражений. Гоголевский текст для меня — все равно, что библейская притча. Если бы в Библии была притча о некоем Акакии Акакиевиче, в этом не было бы ничего удивительного. Так что для меня обратиться к тексту Гоголя так же естественно, как для художника писать на религиозную тему.
— Как происходит у Вас процесс воссоздания себя из чужого текста?
— Для меня гоголевский текст — либретто. А точнее, как я уже сказал, — притча. И это дает мне свободу сочинения внутри текста психологических ситуаций, которые могут косвенно отражать то, о чем думал Гоголь, и, в конце концов, то, о чем думаю я. В данном случае я становлюсь полноправным соавтором, а не человеком, который, как охотничья собака, напал на след текста.
Если видишь в тексте Гоголя притчу, заведомо освобождаешься от ненужных литературных под- робностей. Подробности эти — безусловно, изумительные. Но они становятся балластом и не дают двигаться, когда ты начнешь с текстом работать. Поскольку качество текста очень высокое, они не дадут тебе возможности быть свободным. А когда ты работаешь, то должен быть свободен от текста. Вы знаете, самое ужасное — это сочинить идею и потом двигаться в ее направлении. Это всегда заканчивается плохо — жестким художественным произведением, а искусство (если перевести на язык математики) есть система сложения вещей вероятностных. И эта вероятностность должна быть до конца сохранена. Ты не можешь дать себе окончательный ответ. Если меня спросят: «Что ты хочешь сказать?» — я, конечно, отвечу, и я себе на этот вопрос отвечаю ежедневно. Но эти ответы каждый день меняются. Не меняется лишь покойник. Все должно находиться в постоянном движении, минуя ту мертвую точку, которая называется идеей. И вот еще важный момент: в литературном произведении, если ты задействуешь его в кино, должна быть внутренняя музыкальность, которая не дает возможности обольститься правдоподобием. Когда начинается правдоподобие, ты приходишь к очень жесткой форме — работать в таком режиме, конечно, удобней, чем в ситуации волнения, растерянности и сомнения. Но вероятность того, что ты откроешь для себя что-то новое, гораздо выше.
— Как в таком случае соотносится сценарий фильма с первоисточником и самим фильмом?
— Изначально мы писали вместе с Петрушевской. Но сценарий к «Шинели» и сценарием-то назвать нельзя. Это было скорее эссе по поводу «Шинели». Был бы жесткий сценарий, я бы от него ушел. Я всегда ухожу от сценария! Обработанное другим автором действие для меня теряет смысл. Я должен придумать сам, обязательно. Оно от меня должно идти, я не могу присоединиться к кому-то другому, это не мой трамвай. Когда перед съемками мысленно просматриваешь сцену, которую будешь снимать, может появиться деталь, которая вдруг перевернет весь сценарий. Это как качание маятника, постоянное движение, сомнение, целый рой сомнений, который гудит в голове. В какой-то момент просто наступает необходимость снимать, и ты должен на чем-то остановиться — вот это самое трудное. Придумать-то просто — сложно отказаться от огромного количества вариантов. Даже начав снимать, ты не знаешь, будет сцена развиваться согласно замыслу или нет. Может быть, ее вообще придется выбросить. У меня почти с каждым фильмом так было. Никто не знает, какое количество бумаги я истратил, чтобы прийти к каким-то результатам.

— В чем же тогда смысл сценария?
— Он должен быть первотолчком, дальше я должен придумывать сам. На съемках «Шинели» так и произошло. Мы начали снимать, и вдруг появился эпизод, огромный по размеру (15 минут) — «Акакий Акакиевич дома», с подробностями почти молекулярными. Его не было в сценарии, он возник сам по себе. И когда я стал этот эпизод рассматривать, то понял, что, собственно говоря, это единственный эпизод, где Акакий Акакиевич сам по себе, где он живет в своем собственном космосе. Его микромир должен быть бесконечным, и я, как Марсель Пруст, мог бы это время множить и дробить, множить и дробить, дробить и множить. Работая над этим эпизодом, я как-то пытался соотнести его с тем, что будет до и после, пытался понять, как соотнесется с ним случившаяся с Акакием Акакиевичем драма. Именно этот эпизод стал необходимой для меня изначальной площадкой, на которую я могу поставить ногу, чтобы двигаться дальше. Для кино, кстати, такой принцип работы неприемлем. Кино, в отличие от мультипликации, дорогостоящая штука. Хотя… когда ты находишься в предощущении чего-то другого, чего ты сам не делал и не видел ни у кого, в предощущении иной игры, иной разработки, иного отношения к изображению, когда не годятся предыдущие схемы и любой сценарий летит к чертовой матери, — иначе поступать невозможно.
— Почему в анимации так редко предпринимаются попытки экранизировать серьезные литературные произведения? Казалось бы, форма благоволит…
— Думаю, это связано с психологией отношения к мультипликации, которая часто понимается как искусство исключительно для детей. Почему бытует такое мнение, понятно — ребенок через линии лучше воспринимает мир. Кроме того, мультипликация метафорична. Впоследствии, освоив себя как искусство, обретя технологический комфорт, мультипликация начала разрабатывать другие темы. Отдельные режиссеры стали пытаться говорить о вещах более сложных и на языке более сложном, чем тот язык, на котором мультипликация разговаривала с детьми. Это вполне естественно. Но сегодня мультипликация, став совершенным технологическим процессом, кажется Титаником, который когда-нибудь нарвется на большой айсберг. То, что сейчас происходит в анимации, катастрофично: она обольщена правдоподобием. Мы теряем критерии, все дальше и дальше уходим от себя, от искусства метафоры, искусства образа. А чем мощнее за искусством образный, метафорический язык, тем мощнее само искусство. За мультипликацией сейчас в этом смысле пустота.

— Кто для вас Гоголь в отрыве от текста «Шинели»? Уверена, что все биографическую классику вы читали — и Вересаева, и Набокова, и Розанова…
— Я никогда не читал столько о Гоголе, сколько во время работы над «Шинелью». Естественно, мне попалась книга Вересаева (довольно плохо изданная). Но меня не очень интересовали подробности его жизни. Мне достаточно было нескольких деталей, к которым я потом часто возвращался. Несколько деталей его учебы в гимназии, описанных Вересаевым: какой он был звереныш, как он забивался в угол, как старался привлечь к себе внимание, как у него, по воспоминаниям соучеников, постоянно текло из уха, текло из носа, очевидно, от него дурно пахло… Но при этом уже тогда у него было одно гениальное преимущество — он сочинял так, как никто из его одноклассников. Никого равного ему именно в «момент литературы» не было. Так он себя спасал, возвышал. И это желание возвыситься проходит через всю его жизнь — чего стоит одна история знакомства с Пушкиным! Гоголь, молодой человек из провинции, дает своим родителям для писем адрес Пушкина (якобы он у Пушкиных живет), чтобы показать, какое место он занимает в Петербурге. Это уже хлестаковщина какая-то. Она в нем тоже была.
Впрочем, меня мало привлекают оценочные тексты о Гоголе. Не потому, что они плохи, а потому, что заслоняют от меня моего собственного Гоголя, представление о котором сложилось под впечатлением от его дивных текстов и изобразительных портретов (в первую очередь, конечно, это портрет Александра Иванова). От чтения таких текстов я глупею с каждой страницей. Потому что никакой анализ никогда не может быть сопряжен с творчеством. Никогда.
— Есть такая книга «Литературоведение как литература». Собственно, название ее о том, что интерпретация текста возможна лишь в том случае, если ты становишься с текстом на один уровень, отвечаешь на чужой творческий акт — собственным творческим актом…
— Да, именно так. Перед тем, как начать работать над «Шинелью», я прочел всего Гоголя от края до края. И вот что я увидел: я увидел музыкальные рифмы, я увидел строение фраз, музыкальные отзвуки в них. Каждое предложение — как режиссерский эпизод. От «Сорочинской ярмарки» — через «Петербургские повести» и дальше к «Мертвым душам» и «Шинели» — я увидел эхо музыкальных параллелей, повторов, вариаций. В сущности, Гоголь для меня — это единое огромное музыкальное произведение, где музыкальные темы варьируются в той или иной степени и соединяются по-разному в каждом новом сочинении. Это мне дает больше, чем рациональная картина жития самого Николая Васильевича. И жития его героев. Вот, например, "Коляска«…
— Помню, вы говорили, что это чуть ли не самое любимое ваше произведение у Гоголя…
— Да, это одно из счастливых его произведений. Сколько бы я ни читал (а я уже почти наизусть знаю гоголевские тексты), испытываю неизменное наслаждение, предвкушая, что сейчас появится вот это предложение, а потом вот это. Как в детстве — тебе читают знакомую сказку, а ты уточняешь текст, если что-то вдруг пропустили. Дети ведь готовы десятки раз слушать один и тот же рассказ, зная его наизусть. Мое «счастливое» чтение «Коляски» открывало для «Шинели» пространство и дало ей даже больше, чем работа с текстом «Шинели». Но вообще к пониманию Гоголя я прихожу не через внимательное прочтение, а через обстоятельства съемки. Когда меня неизменно спрашивают, почему я так долго снимаю «Шинель», я могу сказать лишь одно в свое «оправдание»: снимая этот фильм, я столкнулся с тем, что многие российские чиновники, того или иного ранга, ведут себя как истинные гоголевские персонажи, в полном согласии с текстом. Так что тут я попал просто в замкнутый круг.
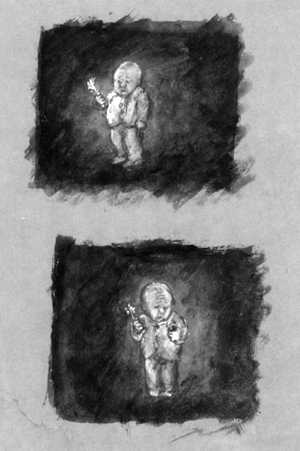
— Внутрь сюжета, иными словами.
— Вся моя работа над «Шинелью» — это сплошная гоголевская история. Ни один фильм не делался так трудно. Начались неприятности еще в 81-м году, когда съемки фильма были приостановлены волевой чиновничьей рукой. Можно, конечно, списать все на Гоголя: с ним часто происходят такие мистические странности. Например, мне рассказывали, что когда была премьера «Ревизора» в Доме кино (это было сравнительно недавно, лет 15 назад), прорвало трубу и просмотр пришлось прекратить. В таких случаях сразу начинают искать мистику. Ищут какую-то потусторонность там, где, на самом деле, присутствует именно человечность. Для Гоголя этот момент «человечности» очень важен, он фактически ведет проповедь «человечности» в каждом своем произведении. Я не говорю о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (я небольшой поклонник этого сочинения), но даже в «Шинели» в лирических отступлениях эта проповедь звучит. Гоголь часто как автор появляется среди своих персонажей и оценивает их. Он появляется, как нахальный режиссер, который может во время спектакля выйти на сцену и обратиться к зрителям. Эти появления Гоголя прекрасны. Я акцентирую на этом внимание потому, что считаю, что у Николая Васильевича была невероятная жажда уйти от чертовщины и прийти к простым человеческим знаменателям, к простым вещам. Жажда найти простые модули человеческого поведения, которые дадут ему возможность существовать в нормальном человеческом пространстве. Также и Достоевский. Не случайно, что у него Христос Гольбейна — это синоним полной мертвечины, и не случайна фраза князя Мышкина: «От этой картины у иного вера может пропасть». А любил, кстати, Достоевский сады Клода Лоррена, где пространство абсолютно бесконечно, где легкий воздух, и терпеть не мог Петербург, это был для него город дьявольский, город-наваждение. Толстой, который не мог свою внутреннюю гармонию соотнести с тем ужасом и хаосом, что был вовне, просто ушел. Как король Лир. В этом историческом споре Шекспир его победил.
В Гоголе заложено это невыносимое ощущение внутренней гармонии, которое невозможно соотнести с тем, что происходит вокруг. Заложена неспособность обрести именно внешнюю гармонию. Это чувство раздирает любого человека. По высокому счету — мы все стремимся к гармонии, но не получается. Поиски гармонии не только в себе самом, но и в окружающем мире естественны. Поэтому Достоевский и любил пейзажи Клода Лоррена, где все настолько в ладу одно с другим, что начинает звучать какая-то небесная музыка. А Николай Васильевич, который описывал целые города будущего? А его рисунки? Эта вязь бесконечных соединений одного с другим: точка живой жизни, от которой расходятся облака жизни. Такая графика не случайна. И основная тема «Шинели», как мне кажется, поиск вселенской гармонии, который оборачивается в итоге вселенской катастрофой.

Материалы по теме
6.seance.z8.ru
Шинель в женском гардеробе: модные пальто из межсезонных коллекций | Vogue | Мода | Выбор VOGUE
Выбор VOGUEКлассика, с какой стороны ни глянь. Выбираем самую красивую модель
25 Января 2017 ОБНОВЛЕНО 14 Декабря 2017

Christian Dior pre-fall 2017
| Говоря «шинель», мы в первую очередь вспоминаем повесть Гоголя о «маленьком человеке» и уже потом только задумывается о самом предмете одежды, который для героя этой повести был так важен, дорог и символичен. Трудно даже сразу вообразить, как именно этот предмет одежды выглядит. Пальто и пальто. В повести описывается ватная подкладка, меховой воротник, новомодная застежка «на серебряные лапки», но четкого представления о том, какой получится заказанная у портного шинель, нет. Так вот, шинель изначально — форменное пальто военнослужащего, со складками на спине, которые удерживает небольшой хлястик, крой, как правило, двубортный (но бывают и исключения), крупные пуговицы идут в два ряда, и обязателен отложной воротник. Мужчине добавляет стати, девушке — изящества. Пролистывая межсезонные лукбуки, мы заметили, что будущей осенью шинель будет снова на коне. |
Paule Ka, Joseph и Stella McCartney pre-fall 2017
| Самая красивая — Dior в исполнении Марии Грации Кьюри, из плотного шерстяного сукна, крой приталенный — на Грейс Хартцель сидит идеально, точно по фигуре. В отличие от шинелей Paule Ka, Joseph и Stella McCartney, которые будто сняты с мужского плеча и потому выгодно подчеркивают хрупкость женских. |
MSGM pre-fall 2017
| Можно, конечно, подождать до осени. Но классика есть классика, она в моде всегда. Так что, если вы подумываете о покупке нового пальто, почему бы не сделать выбор в пользу шинели? Они, как правило, очень теплые — только плотная шерсть способна так держать форму. Кроме того, воротник всегда можно застегнуть наглухо. А еще шинель красит фигуру: как мы уже говорили, объемная скрадывает объемы, а та, что по размеру, будто формирует выправку. Десять вариантов — для нетерпеливых, некоторые с приличными постновогодними скидками. |
www.vogue.ru
КАК СДЕЛАНА «ШИНЕЛЬ» | Петербургский театральный журнал (Официальный сайт)
«Шинель. Балет». Композитор — И. Кушнир. Либретто М. Диденко. Режиссер М. Диденко. Хореография М. Диденко, В. Варнавы, М. Зиньковой, художник П. Семченко.
В одном театре… лучше не называть пока, в каком именно, а то как назовешь, так искушенный театрал сразу и составит в воображении своем готовую картину, и слова критика ни под каким предлогом уже не придутся ему в пору. Нет ничего сердитее искушенного театрала. Говорят, один такой экземпляр напился как-то в театре N. коньяку с плюшками, да так, что пришлось его домой верховыми оттаскивать. А все потому, вообразите, что артист К. на сцене неправильно раскурил пахитоску!
Вот, примерно так и начинается балет. То есть, не балет. Хотя… все-таки балет. «Шинель. Балет». И не то чтобы он совсем так начинается. Вот черт! Опять споткнулся! В смысле, он тоже с анекдота начинается. Ничего еще не сказано, а уже имеется анекдот, небрежно и торопливо рассказанный. (Б. Эйхенбаум «Как сделана „Шинель“ Гоголя»). Точнее, якобы небрежно и как будто бы торопливо. (Занавес.)

«Шинель». Сцена из спектакля.Фото — Ники V. Demented.
Новая работа команды Диденко-Кушнир-Семченко (и — обязательно — Ко!) — шкатулка с двойным дном. Качественный интеллектуальный продукт, как любят выражаться маркетологи, для самой широкой аудитории. Так же изящно сделана первая большая постановка этой группы — тюзовский «Ленька Пантелеев», где увлекательный детективный сюжет усложняется интеллектуальной игрой-диалогом с Брехтом, музыкальные «эпохи» наслаиваются одна на другую, а совершенно подростковый протестный драйв уживается с дидактикой. Провоцируя, обманывая ожидания, подшучивая над зрителем, создатели «Леньки» умудряются нас, зрителей, осчастливить. Та же история происходит с «Шинелью».
«Я хотела балета. Не дали мне его», — как поэтически выразилась зрительница за моей спиной. Первое ощущение после просмотра спектакля — все-таки растерянность (хореографы, должно быть, обрадуются, что попали в цель). Слово «балет», провокативно внесенное в название, обещает энергию, которой визуальный ряд не дает. Возможно, это «эффект второго показа». Но скорее — закон музыкальной партитуры этого шоу. Потому что не танец, а музыка генерирует здесь энергию, а происходящее на сцене ей сопротивляется. Главный герой представления — музыка — в этом спектакле, призывающем к освобождению, становится «прекрасным далеко», воплощением внутренней свободы. Кушнир размещает на сцене целый камерный ансамбль во главе с фортепиано, дополняя его электронной «подкладкой». Прихотливо выстроенный сюжет включает шумы, техно, музыку барокко, гремучую смесь инструменталки, положенной на ритм-бас, даже, кажется, немного диско… Петербург? Не Петербург? Неопределенный динамичный город XXI века оживает то мистическим («гоголевским») аккордом, то какой-то кабацкой разнузданностью, то бравым маршем, а то и просто издевательски прелестным пением птичек. Сюда, в этот пластичный музыкальный мир, на голый планшет сцены заселяет Максим Диденко своих «пятерых актеров».

«Шинель». Сцена из спектакля.Фото — Ники V. Demented.
«Своих» — потому что персонажей Максим тоже писал сам — впервые, кажется, выступая в роли либреттиста. Хотя в интервью он повторяет, что делал все «по науке», в три акта (потому, мол, и балет — ничего страшного, что мало танцуют), но более явно читается структура номерная. Для меня это даже приятнее — во-первых, возникает ностальгическая перекличка с «Антресолью», «маленьким внутренним кабаре», где некогда АХЕ и Диденко ставили совершенно хармсовские по духу скетчи. Эта хармсиана, «сиюминутное представление предметов с музыкой» справедливо и умно вшита в новую «Шинель». Во-вторых, доведенные до абсурда каламбуры, объединенные в лабиринт сцеплений анекдоты — это, собственно, и есть гоголевский способ построения сюжета. Так что не правы те, кто не находит в спектакле Гоголя — его там гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Каламбуры материализуются на сцене с варварской грубостью, реальность выворачивается в уродливую гротескную ухмылку. Например, в клоунском дуэте Пушкина (Илья Дель) и Гоголя (Сергей Азеев). Гоголь — тормоз. И еще он жестокий. Пушкин — веселый, инфантильный, заводной. Украдет у Гоголя х… знает что, да и съест. Катастрофа! Появление такой парочки в начале спектакля с выеденным яйцом в руках недвусмысленно намекает — надоели они, не стоят и выеденного яйца. Ну, нет так нет. Классики обращаются в гопников — юморят, попивают пепси под клавесин. Именно они жестко сдирают с Акакия его шинель, после чего Гоголь преспокойно мочит Пушкина из пистолета. Такие дела.

«Шинель». Сцена из спектакля.Фото — Ники V. Demented.
Сценический текст очень эластичен — от клоунады к драме, от драмы к contemporary и даже псевдодокументальному театру. Мне еще не приходилось видеть пародию на вербатим — и вот, пожалуйста. Гала Самойлова, играющая Акакия, выдает фантастический по достоверности интонации монолог от лица старой акакиевской шинели: «И еще ему новая понадобилась. Нужна мне, говорит, новая — представляете? И пошел с ней гоголем по Невскому…». И далее в том же духе. Стеба в спектакле много — жесткого и даже злого. Не только пародия на вдалбливаемые в головы учеников формулы про «наше Все». Ребята смеются над идиотическим поклонением вождям, бессмысленными спектаклями начальников (упражнения Красного в исполнении Деля с конструктивистской фигурой), официальным искусством «большого стиля». Бедняга Акакий не вписывается ни в народные переплясы, ни в балетные па, которые умело пародирует кордебалет (Азеев, Анисимов, Дель, Хамов). Его пластика индивидуальна, но это мы увидим лишь в паре минутных соло, да в самом финале, когда все испытания будут уже позади.
Невольно вспоминается другая работа Диденко, в которой участвовал и Илья Дель, — «Божественная комедия. Ад». Тот спектакль прожил недолго — слишком силен был заряд ненависти ко всему пошлому, «культмассовому», воняющему мертвечиной. В «Шинели» агрессия разбавлена изрядной долей юмора, хотя конфликт остался. Есть Акакий — и есть кордебалет. Гала играет все того же, вполне гоголевского, маленького человека. Что же делать, если не чиновник сейчас олицетворяет попранное человеческое достоинство — скорее наоборот, все что связано с государством, стало уже символом насилия над личностью. Про достоинство — это, например, мальчик, оплеванный однокашниками-недоумками, но гордо терпящий. Или женщина, которую за волосы таскают по земле (знакомый сюжет, не правда ли?), а она молчит. Тема женского подспудно возникает в спектакле, но не в гендерном аспекте, конечно. Тут речь об уязвимости, хрупкости красоты перед лицом тупой силы, уверенной в собственной безнаказанности. Создатели спектакля не понаслышке знают, кто они такие, эти «петровичи» и «красные» — тот же Илья Дель побывал в автозаке. Поэтому, должно быть, так отчаянно воюет за личную свободу его анархист Ленька Пантелеев. Поэтому с такой самоотдачей сыгран его Красный — уродливый, гротескный образ нового начальника, к которому в мольбах о защите прибегает Акакий.

Гала Самойлова (Акакий).Фото — Мария Круговая.
Акакий Самойловой-Диденко растет, из гадкого утенка превращаясь в белого лебедя. Получение шинели для него — что свадьба. Гоголю такое прочтение, на удивление, не противоречит: «Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник» (Б. Эйхенбаум «Как сделана „Шинель“ Гоголя»). Долгожданное присоединение к миру «избранных» отмечено надеванием белого платья и дикими цыганскими плясками — все хорошо, изгоя, наконец, приняли. Хитрые конструкции, спаянные из железных труб (знатный выдумщик Павел Семченко проникся духом авангарда 1920-х), так пугающе холодные раньше, перестали быть знаком «железной поступи» системы, а стали всего лишь спортивным снарядом. Вот только «петровичи» так просто к себе не подпускают — шинели Акакий лишается очень быстро. Финал не очевиден. Хореографы как будто предлагают два сценария. В одном из них Акакия, сладострастно сжимающего добытую где-то шинель, уволакивает в небытие угрожающего вида безликое создание. В другом — актеры весело оттанцовывают апофеоз (что очень кстати, поскольку к финалу все же дико хочется танца) и Акакий возвращается в свою «ученическую» стадию. Натягивает уродливую шапочку и снова из лебедя превращается в оплеванного мальчишку. Последняя мизансцена в точности повторяет самую первую. С той только разницей, что вместо доступных ранее казенных «дробушек» этот Акакий овладел языком танца. Теперь он движется не вяло и шаблонно, как в начале спектакля, — он стал индивидуальностью.
Таков, наверное, основной посыл этого очень гоголевского и очень актуального спектакля. Чтобы по-настоящему понять что-то, придется спуститься на самые глубокие круги ада, вываляться в дерьме, если надо, как это делал герой Диденко в «Божественной комедии». Чистеньким из этой мясорубки не выбраться. Пройдя через иллюзию обретения шинели и жестокую расплату за эту иллюзию, мы возвращаемся к самому началу пути. Но уже в новом качестве.
ptj.spb.ru
Гоголевская «Шинель» — простая, но глубокая
В школе произведения Н.В. Гоголя изучаются довольно рано, возможно, из-за этого многие российские дети запоминают только то, как страшно было читать «Вечера на хуторе близ Диканьки» и как скучно всё остальное. А от «Шинели» на уроках литературы школьники обычно недоумевают, разыскивая в ней глубинный смысл и «канцелярскую» анекдотичность, говорить о которых положено по программе.
Наверное, именно поэтому многие произведения советуют перечитывать в более зрелом возрасте. Тут-то и раскрывается для читателя истинный смысл и предназначение «маленьких человечков», «нигилистов» и других литературных героев.
3 июля в большом зале Драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, в рамках VIII Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан», абаканцы встретились с болгарским театром «Credo», который на этот раз приехал в Хакасию с двумя спектаклями — «Шинель» и «Папа всегда прав». На «Чир Чайаане» — 2012 публика настолько тепло приняла болгар и их «Папу», что оргкомитет фестиваля решил пригласить театр в Хакасию ещё раз.

«Шинель» в постановке «Credo» даёт возможность взрослым ещё раз взглянуть на знакомую историю, но под другим углом, а детям — не заскучать и понять смысл этого довольно сложного произведения. Артисты мастерски ведут зрителей между любопытством, страхом, грустью и переживаниями к облегчению, радости и ощущению свободы. Классическая повесть здесь рассказана от имени тех, кто услышал, понял и прочувствовал историю жизни Акакия Акакиевича Башмачкина.
Грицко и Панас занимаются отловом бродячих собак в Петербурге, они расставляют капканы (везде — на улице, крышах и в реке. На всякий случай!) и ждут. Но получается так, что в один из их капканов попадается призрак Башмачкина, который рассказывает друзьям историю своей жизни. Грицко и Панас — слушатели не только понимающие, но и глубоко переживающие за судьбу Акакия.

Вот он родился, но радовался недолго — осознал, что всю жизнь будет чиновником, и заплакал. И действительно, стал им, к тому же годами вокруг него выросла «шинель» — вся в заплатках, рыжевато-мучного цвета... Но как нравилось Акакию Акакиевичу переписывать! Стоит напомнить, что работал он чиновником в департаменте. А чем занимаются в департаментах? Пишут, здороваются, переписывают, подписывают, в общем, работают. И в переписывании виделось Башмачкину что-то особенное: рисуя буковки, он и сам становился ими. А когда с его «шинелишкой» произошла «оказия» (портной Петрович не нашёл, куда пришить очередную заплатку), Акакий Акакиевич отчаялся, но именно тогда и родилась у него мечта. Самая первая. К ней сначала было трудно привыкнуть, но потом чиновник ни о чём другом и думать не мог, кроме как о новой шинели.

Все мы знаем, что произошло дальше: новую шинель утащили, а ведь она для Акакия Акакиевича не была «просто», она была «как». Не смог пережить Башмачкин этого, «просто испустил дух, и вот так тихо исчезло существо, никому не дорогое и не интересное...»
Рассказав эту историю, Панас и Грицко понимают: для того, чтобы выбраться из клетки, куда они попали из-за Башмачкина, вовсе не обязательно быть призраком, сделать это можно в любой момент, когда захочется, потому что все мы — свободны.
Артисты вновь удивили публику, интерпретируя метафоры Гоголя с помощью декораций: в их умелых руках клетка превращалась в шинель с заплатками, а полотно с «головой» — в Акакия Акакиевича.

Спектаклю «Шинель» уже более 20 лет. Театр «Credo» играет его на девяти языках: болгарском, французском, английском, немецком, испанском, японском, греческом, сербском и, конечно, русском.
«Очень важно показывать спектакль на языке зрителя, — говорит Нина Димитрова, создательница театра «Credo», — мы не хотим строить четвёртую стену. Если зритель меня не понимает, то это нечестно. А театральная игра должна быть честной, тем более «Шинель», когда актёры и зрительный зал являются равноправными, и им нужно постоянно общаться»
Обозначить каким-то классическим термином стиль «Credo» невозможно, сама Нина говорит, что ей стало легче отвечать на этот вопрос только после того, как один английский критик написал об их театре в «The Independent»: «Ты смеёшься, но это не комедия; ты плачешь, но это не трагедия; здесь есть клоуны, но это не цирк; есть куклы, но это не кукольный театр; есть яркая мимика, но это пантомима. Господь Бог знает, что всё это, но единственное, что можно сказать: это — настоящий театр».

«Credo» приехал в Хакасию в обновлённом составе: так получилось, что в 2012 году артисты в предпоследний раз играли вместе, а далее их творческие пути расходились. Однако за эти два года Нина успела стать преподавателем в Национальной академии театрального эфирного искусства, где, естественно, стала обращать внимание на студентов, искать среди них будущих артистов театра «Credo».
«Есть очень талантливые, но тяжёлые актёры, у которых как-то медленно всё происходит. Для другого типа театров они прекрасны, но в «Credo» всё по-другому. Нужно иметь бурное воображение, чувство юмора, экспрессивность, обладать быстротой реакции и, конечно, быть наивным»
Больше остальных в Академии внимание Нины привлекли Стелиан Радев и Димитр Несторов, которые вот уже год играют в «Credo», Стелиан — Грицко, а Димитр — папу в спектакле «Папа всегда прав».

«Credo» руководствуется принципами минимализма и бедной, тряпочной эстетики. Отсюда этот непривычный реквизит — тряпочки, кусочки и элементы фигур, вовсе не похожие на кукол или марионеток. Через всю «Шинель» артисты проводят символ-клетку, которая трансформируется то в шинель, то в Башмачкина, то в тюрьму и даже в гроб.
«Спектакль «Шинель» говорит о свободе человеческого духа, и логично, что там появилась клетка. Это метафора, которую мы увидели в произведении Гоголя — шинель-капкан. Там есть такие слова: «На пути человека заложено очень много капканов», и вся наша жизнь — это прогулка из одного капкана в другой. Башмачкин живёт внутри своей шинели, а освободившись от неё, превращает шинель в мечту. Это гоголевские абсурды, которые нам очень интересны»

Нина Димитрова уверена, что вовсе не обязательно иметь на сцене огромное количество реквизита, ведь спектакли «Credo» построены на воображении.
«Самое важное — это не средства, которые ты используешь, чтобы выразить идею, а сама идея. «Credo» — это театр творческих возможностей, здесь актёры — творцы, а не исполнители. Если бы я была акробатом, то я бы обязательно на сцене использовала ещё и акробатику»
Стелиан Радев в Абакане играл «Шинель» на русском языке впервые.
«Очень переживал, выучить текст — не сложно, на это требуется не больше 15 дней. Но здесь очень много импровизации, на болгарском я могу постоянно что-то добавлять в текст, а здесь вроде и хотелось что-то ещё сказать зрителям, но, к сожалению, незнание языка мешает. А публика мне очень понравилась, люди реагировали на такие моменты, на которые в Болгарии никогда не реагировали. Наверное, Гоголь всё-таки понятнее именно для русских людей»

Артисты «Credo» остались благодарны организаторам «Чир Чайаана» за приглашение в Хакасию во второй раз. Благодарны они и хакасской публике — самой тёплой и отзывчивой. Далее «Credo» представит спектакли «Шинель» и «Папа всегда прав» японской публике, к чему артисты сейчас активно готовятся, изучая этот довольно сложный язык.
Полный фотоотчёт спектакля «Шинель» в постановке болгарского театра «Credo» смотрите в галерее проекта.
www.r19.ru