LJ Magazine. Журнал соблазн
журнал Соблазн
Записная книжкаЕще в советские годы считалось, что нормальный журналист должен иметь некую ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ, в которой скапливаются все его жизненные наблюдения и на основе которой он пишет и публикует свои материалы. Возможно так поступали Симонов и Гроссман , перед которыми я лично снимаю шляпу. Моя записная книжка всегда содержала лишь номера телефонов и тезисные конспекты совещаний и мероприятийМожно собрать массу реальных и жизненных историй, но читателю интересно нечто ему знакомое и понятное – поэтому не буду портить жизнь туристическим фирмам и военным журналам – только реальнее истории об очень реальных людях.
30 ноября 1998 года я остался без работы. Телевидение, где я тогда трудился, просто сократило мою должность редактора информационных и художественных программ и выставило меня на улицу... Сразу искать новое место я не хотел - надо было немного осмотреться и передохнуть. Спустя пару дней после моего увольнения-сокращения дома раздался звонок.- Здравствуйте, Ростислав Евгеньевич? Одну минутку, я вас сейчас соединю…С кем меня сейчас соединят, я даже не успел спросить. В трубке проиграла мелодия и я услышал мужской голос.- Здравствуйте, Ростислав. Меня зовут Михаил. Насколько я понимаю, мое имя Вам ничего не скажет, Вы со мной не знакомы. По моей информации Вы сейчас безработный. Это правда?- Правда, - подтвердил я.- Ну, тогда у меня есть для Вас интересное предложение – в ближайшую субботу я Вас жду в Москве.- В Москве? Если честно, денег на эту поездку у меня нет, - признался я.- Ничего страшного, займите где-нибудь. Я компенсирую все Ваши расходы. Всего доброго. – Михаил повесил трубку.Я задумался. Ехать или не ехать? В Москву… К какому-то Михаилу… Но с другой стороны, чем черт не шутит, вдруг на самом деле я получу какую-то интересную работу? Взвесив все «за» и «против», я занял денег и купил билет в Москву.Утром в субботу я уже был в Домодедово. В аэропорту в толпе встречающих на глаза мне попался мужчина с плакатом : «Ростислав».- Ростислав, это я. А Вы – Михаил?- Что Вы… - смутился мужчина. – Я у него работаю. Михаил дома. Я должен Вас встретить и отвезти к нему.- ОК. Поехали.Когда машина свернула на МКАД, я был почему-то убежден, что с Кольцевой мы поедем в сторону центра, и поэтому слегка удивился, что машина пошла в противоположную сторону по Ленинградскому шоссе. Отъехав километров тридцать, мы свернули еще раз и , наконец, заехали за какой-то забор , оказавшись в коттеджном поселке. Понятия Рублевка тогда не было, да и нынешнюю Рублевку поселок не тянул – грязь и стройка. - Проходите, Михаил вас уже ждет, - сказал водитель, открывая дверь трехэтажного коттеджа сложенного из аккуратного бруса.Я зашел. В холле было пусто. В углу стоял огромный проекционный телевизор и очень много музыкальных инструментов – синтезатор, ударная установка, гитары. - Это Вы Ростислав? – я обернулся. У меня за спиной стоял абсолютно голый мужик, вытиравшийся полотенцем. – Меня зовут Михаил. Вы, наверное, после полета устали? Я для Вас комнату подготовил наверху. Располагайтесь, а днем поговорим. Мне сейчас, к сожалению, некогда.Михаил, развернулся и, сверкнув задницей, исчез за дверью. Сна, естественно, не было ни в одном глазу. Выглянул в окно. Михаил в черном пальто садился в Мерседес-кабриолет. Открылись ворота – Михаил уехал.
* * *К часу дня к коттеджу начали подъезжать машины. Одна, вторая, третья… Вскоре, подъехал и Михаил. Делать вид, что я сплю мертвым сном было, по крайней мере, глупо, да и, если удирать, то с первого этажа проще, чем с третьего. Поэтому я решил спуститься в холл. Народу там собралось человек шесть. Мужики в возрасте от сорока до пятидесяти.- О! Ростислав проснулся! Есть хочешь? – повернулся ко мне Михаил. – Познакомьтесь, это Ростислав из Кузни.Все по очереди пожали мне руку, представились. Их имена мне ничего не говорили. - Как Кузня? Как Живило? В хоккей играет? – поинтересовался один.- Да вроде играет…, - неуверенно ответил я.Чувствовал я себя не в своей тарелке. Все присутствующие, по всей видимости, занимались металлургическим бизнесом. В разговоре, естественно, я не участвовал, и, потягивая виски со льдом, больше слушал. Наконец, я совсем почувствовал себя лишним и, поймав паузу, подошел к Михаилу.- Михаил, может мы наши вопросы обсудим , да я пойду еще посплю?- Расслабься , Рост, давай наши дела позже обсудим. А если хочешь спать – не буду мешать.Я ушел к себе на третий этаж и, как ни странно вырубился. Спал я где-то часа два и разбудила меня домработница.- Вставай, Михаил Владимирович, тебя приглашает….Я протер глаза, умылся и спустился вниз. Гостей уже не было, Михаил сидел на диване и и бренчал на гитаре.- Я когда-то сильно музыкой увлекался, директором у одной серьезной группы был, а теперь вот только балуюсь. Слушай, давай в клуб сегодня сходим, а там и поговорим. Ты как?Мне оставалось только согласиться.До Москвы мы долетели быстро – на своем «Мерседесе» Михаил шел по Ленинградскому километров сто пятьдесят - не меньше. По дороге заехали в какой-то ресторан. Нас там ожидала странная пара – один был лыс и похож на актера Казакова, второй – вполне рядовой внешности, но украшенный звездой Давида, висевший на цепи. Размеру звезды позавидовал бы Розенбаум.- Это Ростислав, он из Кузни, - в очередной раз сказал Михаил. - Гоша, - представился лысый, - только не спрашивайте сын я Казакова или нет. Не сын, хоть и тоже актер. Как звали второго, я честно говоря, не запомнил.Встреча была абсолютно деловая. Обладатель звезды Давида просил у Михаила денег на открытие сети ресторанов в пику лужковским «Елкам-Палкам».- Название надо только понятное и простое, - заметил Михаил. – Ну, например…. Рост, как у вас в Новокузнецке столовые называют?- Столовые, - сказал я.- А проще?- Столовка…- А «пищеблок» не говорят?- Нет, - я покачал головой – Не говорят.- А прикольное название, «Пищеблок», - мечтательно сказал Михаил.- У меня уже и интерьеры разработаны - поехали ко мне, посмотрим.- Забирайте Ростислава, а я подъеду чуть позже, - Михаил посмотрел на часы и исчез.Мне деваться было некуда и я поплелся вслед за Гошей и ресторатором. У Гоши оказался красный Jeep «Wrangler». Я еле-еле поместился на заднем сидении – Гоша и ресторатор были парнями моей комплектности и размерности.Ресторатор жил в сталинском доме где-то в районе метро «Университет». Квартира оказалась забита народом, кто-то спал, кто-то играл на компьютере в «Варкрафт». Публика была молодая с какими-то знакомыми лицами.- Вот эта девчонка в ролике «Ригли Спирминт» снималась, вот тот парень тоже, - показал ресторатор, - Актерская тусовка, все мои друзья. Я кивнул головой, поздоровался и пошел на кухню, там наливали чай. - Может, курнешь? – поинтересовался ресторатор.- Нет, - отказался я.- А промокашку будешь? – не унимался ресторатор. - Это что?- Лист промокашки пропитанный чистым ЛСД, как «марка» кладешь под язык… У вас в Кузне нет?Если честно, я не знал, есть в Новокузнецке или нет «марки» и «промокашки», но на всякий случай сказал, что нет.- «Промокашка» - это тема, - мечтательно сказал ресторатор. – После нее на машине прикольно ехать – такое ощущение, что едешь по встречной. И сексом заниматься еще интереснее, видишь, как ты в женщину реально перетекаешь….- Извини, но мне с Михаилом еще дела надо решать…- Ну-да, ну-да, ты же с Кузни, - ресторатор налил мне кружку кофе.- Рост, Гоша, поехали, - нас ждут, - сказал Михаил.- Куда едем на этот раз? - спросил я.- В клуб «16 тонн», там Мазаев выступает.- Мазаев – это хорошо, - Гоша начал собираться.
* * *Возле клуба стояла большая толпа – народ давился за билетами на «Моральный кодекс».До концерта оставалось еще минут пятнадцать, когда к нашему столику подошел Мазаев. Обнявшись с Михаилом, он повернулся ко мне. Я уже предполагал, как меня сейчас представят и опередил всех:- Меня зовут Ростислав, я из Кузни!- Сергей Мазаев, лучший саксофонист России, - скромно представил себя Мазаев. – Меня к вам на какой-то конкурс красоты приглашают.- Ладно, ребята, простите, мне пора, - Мазаев исчез за кулисами.После концерта мы оставаться не стали, сели в «Мерседес» и поехали в сторону Мишиного дома.- Ну, что - может ты мне объяснишь, зачем ты меня пригласил? – поинтересовался я.- Как тебе сказать… - Михаил притопил педаль газа. – Есть у вас в Новокузнецке комбинат. ЗСМК. Я, вернее, мой банк, один из акционеров – пакет у меня небольшой, но мне совершенно невыгодно введение внешнего управления и появление на заводе Анатолия Смолянинова. Поэтому мне нужна серия публикаций в центральной прессе, написанная кузбасским журналистом. Материалы должны быть направлены против Смолянинова. Я очень хорошо заплачу… Один знакомый в Новокузнецке бизнесмен сказал, что ты парень без крыши в голове и хорошо известен в Новокузнецке. Ну, так как? Сделаешь?- Михаил, я не буду ничего писать.Михаил затормозил, внимательно посмотрел на меня:- А почему?- Со Смоляниновым я лично не знаком, но, прости, гадить против него не буду за любые деньги.- Надо же! - удивился Михаил. – Подумай до завтра.До его коттеджа мы доехали молча. Поднявшись в комнату, я сразу завалился спать.Наутро, когда я вышел к столу, Михаил уже сидел, пил кофе и читал газету:- Подумал? - Подумал. Результат тот же – отказываюсь.- Твой выбор – твое решение.К моему удивлению, Михаил компенсировал мои расходы и оплатил билет до Новокузнецка. Сам лично отвез меня до метро. Мы друг другу пожали руки – он внимательно посмотрел мне в глаза:- Интересный народ в Кузне живет.С тех прошло много лет. На Запсибе давно нет внешнего управления, комбинат выкарабкался и живет, по-моему, неплохо, о тех страшных временах переделов собственности сегодня уже снимают художественные фильмы. Недавно я залез в Интернет – банк Михаила жив до сих пор, да и он сам периодически возникает в публикациях «Эксперта» и «Коммерсанта» - значит все у него в порядке. Актер Гоша сейчас очень популярен, его фамилию – Куценко - знают, пожалуй, все. Мазаев поет, записывает диски. Только вот сеть ресторанов «Пищеблок» так и не стала конкурентом «Елкам-Палкам» Юрия Лужкова.
soblazn-mag.livejournal.com
журнал Соблазн
ТЯЖЕЛЫЙ РОККогда вспоминаешь свою жизнь, когда взвешиваешь некоторые ее события, людей, с которыми она тебя сталкивала, женщин, с которыми у тебя были романы – затяжные или скоротечные, поневоле начинаешь строить какую-то умозрительную иерархию. Память поневоле оставляет больше места тому, с кем тебе было по-настоящему хорошо, и лишь маленькая полочка в ее архиве отдана под те «отношения», в которых намешаны любовь, ревность, страсть, обида, ответственность и … разочарование. Помнишь все: с кем тебе было хорошо и почему, с кем мучался и с кем был счастлив. Помнишь это состояние лихорадки, когда разум шепчет: Беги!, а этот сладостный якорь держит тебя мертвой хваткой в семибальном шторме, хотя ты наперед знаешь о неудачном исходе именно этого плавания.
Вот тогда и начинаешь понимать, что любовь действительно должна быть одна и на всю жизнь. Но какую нравственную силу надо иметь, чтобы сделать ее таковой! Быть заботливым, верным, нежным, надежным и преданным. Защищать свое чувство от всего, что может его омрачить. Но редко кому это удается, и такие люди, хоть, может быть, и не достигли каких-то материальных вершин, с огромным перевесом побеждают в этом напряженном матче, под названием Жизнь.Любовь - это то слово, которое есть в каждом языке, каждый человек, населяющий планету Земля, хоть как-то прикоснулся к этому чувству. Есть люди, утверждающие, что любовь им неведома. Такие экземпляры либо лицемеры, либо глубоко несчастные люди. Подавляющему большинству человечества любовь следует всю жизнь:
Впервые она появляется как наивное почти младенческое чувство к некоему идеалу, на которого совершенно случайно становится похожей девчонка с соседней парты.
Потом появляется сильная страсть на втором курсе института, когда весна, бьющая солнцем через края луж и ручьев, уносит тебя от скучного мира сопроматов и английского, когда нет ничего теплее лавочки в сквере, а все счастье мира заключается в коротенькой фразе, сказанной Ей: Люблю тебя!
Потом ты вступаешь в жизнь, ты уже женат, у тебя дети, ты счастлив или, по крайней мере, безмятежен. И тут в это спокойное царство, разметая во все стороны мысли, обязанности, благоразумие и благополучие, врывается Она: молоденькая коллега по работе, женщина твоего возраста, с которой ты встретился на пляже в отпуске, девушка, которую ты случайно подвез вечером или … или та самая – со студенческой лавочки, с которой вы случайно столкнулись спустя столько-то лет! И что произойдет дальше, от тебя уже не зависит. Начнутся бесконечные тайные звонки и встречи, придуманные командировки и задержки на работе. Начнется такое…, что, смешиваясь с твоим чувством стыда перед семьей и детьми, обречет тебя на долгую муку. И вот это безобразие тоже называется словом «любовь». Но любовью грустной. И дай Бог, чтобы она появилась не так скоро, а лучше – не появилась бы вообще.
Ведь сейчас весна! Мы ждем тепла и солнца. Уже бывают деньки, когда небо с землей так непохожи: июньский голубизна и облачка так сильно контрастируют с серым снегом и голыми черными деревьями, что этот контраст заставляет сердце замирать в сладостном ожидании… чего? Кто знает? Именно это весеннее волнение и ожидание неизвестного счастья готовит благодатную почву для зерна любви. Лишь только коснется оно ее поверхности, как весна тут же заставит это маленькое зернышко пустить крепкие и глубокие корни, зацвести и оплести тебя своей лианой, вяжущей по рукам и ногам.
Все это непросто, все это сложно, но все это было, есть и будет:
«Когда любовь манит тебя, следуй за ней, хотя ее пути тяжелы и круты. Когда ее крылья обнимают тебя, сдайся ей, даже когда меч, спрятанный в ее лепестках, ранит тебя. И когда она говорит с тобой, верь ей, хотя ее голос может разбить твои мечты, как северный ветер уничтожает сад. Потому что в то самое время, когда любовь коронует тебя, она готовится тебя распять. Она взращивает тебя, но и обрезает твои ветви. Она выращивает тебя, как початок кукурузы, она молотит тебя, чтобы освободить тебя, она просеивает тебя, чтобы освободить тебя от кожуры, она размалывает тебя добела, она месит тебя, пока ты не станешь покорным и бросает тебя в своей священный огонь, чтобы сделать тебя священным хлебом для священного праздника Господня. И все это любовь делает с тобой, чтобы ты мог узнать тайны своего сердца, и с эти знанием стать частью сердца жизни.Но если в страхе своем ты ищешь в любви лишь мира и удовольствия, будет лучше для тебя закрыть свою наготу и выйти с молотилки любви в мир без времен года, где ты будешь смеяться, но не всем своим смехом и плакать, но не всеми своими слезами. Любовь ничего не дает, кроме самой себя, и ничего не берет, кроме как у себя же. Любовь не обладает, и ею нельзя обладать. Любви достаточно себя самой. Когда любишь, не говори «Бог в моем сердце», говори «Я в сердце Бога». И не думай, что ты можешь направить любовь. Потому что она, если сочтет тебя достойным, направит тебя. У любви только одно желание желания - наполнить саму себя». (Халил Гибран, из книги "Пророк")soblazn-mag.livejournal.com
журнал Соблазн
Записная книжкаЕще в советские годы считалось, что нормальный журналист должен иметь некую ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ, в которой скапливаются все его жизненные наблюдения и на основе которой он пишет и публикует свои материалы. Возможно так поступали Симонов и Гроссман , перед которыми я лично снимаю шляпу. Моя записная книжка всегда содержала лишь номера телефонов и тезисные конспекты совещаний и мероприятийМожно собрать массу реальных и жизненных историй, но читателю интересно нечто ему знакомое и понятное – поэтому не буду портить жизнь туристическим фирмам и военным журналам – только реальнее истории об очень реальных людях.
30 ноября 1998 года я остался без работы. Телевидение, где я тогда трудился, просто сократило мою должность редактора информационных и художественных программ и выставило меня на улицу... Сразу искать новое место я не хотел - надо было немного осмотреться и передохнуть. Спустя пару дней после моего увольнения-сокращения дома раздался звонок.- Здравствуйте, Ростислав Евгеньевич? Одну минутку, я вас сейчас соединю…С кем меня сейчас соединят, я даже не успел спросить. В трубке проиграла мелодия и я услышал мужской голос.- Здравствуйте, Ростислав. Меня зовут Михаил. Насколько я понимаю, мое имя Вам ничего не скажет, Вы со мной не знакомы. По моей информации Вы сейчас безработный. Это правда?- Правда, - подтвердил я.- Ну, тогда у меня есть для Вас интересное предложение – в ближайшую субботу я Вас жду в Москве.- В Москве? Если честно, денег на эту поездку у меня нет, - признался я.- Ничего страшного, займите где-нибудь. Я компенсирую все Ваши расходы. Всего доброго. – Михаил повесил трубку.Я задумался. Ехать или не ехать? В Москву… К какому-то Михаилу… Но с другой стороны, чем черт не шутит, вдруг на самом деле я получу какую-то интересную работу? Взвесив все «за» и «против», я занял денег и купил билет в Москву.Утром в субботу я уже был в Домодедово. В аэропорту в толпе встречающих на глаза мне попался мужчина с плакатом : «Ростислав».- Ростислав, это я. А Вы – Михаил?- Что Вы… - смутился мужчина. – Я у него работаю. Михаил дома. Я должен Вас встретить и отвезти к нему.- ОК. Поехали.Когда машина свернула на МКАД, я был почему-то убежден, что с Кольцевой мы поедем в сторону центра, и поэтому слегка удивился, что машина пошла в противоположную сторону по Ленинградскому шоссе. Отъехав километров тридцать, мы свернули еще раз и , наконец, заехали за какой-то забор , оказавшись в коттеджном поселке. Понятия Рублевка тогда не было, да и нынешнюю Рублевку поселок не тянул – грязь и стройка. - Проходите, Михаил вас уже ждет, - сказал водитель, открывая дверь трехэтажного коттеджа сложенного из аккуратного бруса.Я зашел. В холле было пусто. В углу стоял огромный проекционный телевизор и очень много музыкальных инструментов – синтезатор, ударная установка, гитары. - Это Вы Ростислав? – я обернулся. У меня за спиной стоял абсолютно голый мужик, вытиравшийся полотенцем. – Меня зовут Михаил. Вы, наверное, после полета устали? Я для Вас комнату подготовил наверху. Располагайтесь, а днем поговорим. Мне сейчас, к сожалению, некогда.Михаил, развернулся и, сверкнув задницей, исчез за дверью. Сна, естественно, не было ни в одном глазу. Выглянул в окно. Михаил в черном пальто садился в Мерседес-кабриолет. Открылись ворота – Михаил уехал.
* * *К часу дня к коттеджу начали подъезжать машины. Одна, вторая, третья… Вскоре, подъехал и Михаил. Делать вид, что я сплю мертвым сном было, по крайней мере, глупо, да и, если удирать, то с первого этажа проще, чем с третьего. Поэтому я решил спуститься в холл. Народу там собралось человек шесть. Мужики в возрасте от сорока до пятидесяти.- О! Ростислав проснулся! Есть хочешь? – повернулся ко мне Михаил. – Познакомьтесь, это Ростислав из Кузни.Все по очереди пожали мне руку, представились. Их имена мне ничего не говорили. - Как Кузня? Как Живило? В хоккей играет? – поинтересовался один.- Да вроде играет…, - неуверенно ответил я.Чувствовал я себя не в своей тарелке. Все присутствующие, по всей видимости, занимались металлургическим бизнесом. В разговоре, естественно, я не участвовал, и, потягивая виски со льдом, больше слушал. Наконец, я совсем почувствовал себя лишним и, поймав паузу, подошел к Михаилу.- Михаил, может мы наши вопросы обсудим , да я пойду еще посплю?- Расслабься , Рост, давай наши дела позже обсудим. А если хочешь спать – не буду мешать.Я ушел к себе на третий этаж и, как ни странно вырубился. Спал я где-то часа два и разбудила меня домработница.- Вставай, Михаил Владимирович, тебя приглашает….Я протер глаза, умылся и спустился вниз. Гостей уже не было, Михаил сидел на диване и и бренчал на гитаре.- Я когда-то сильно музыкой увлекался, директором у одной серьезной группы был, а теперь вот только балуюсь. Слушай, давай в клуб сегодня сходим, а там и поговорим. Ты как?Мне оставалось только согласиться.До Москвы мы долетели быстро – на своем «Мерседесе» Михаил шел по Ленинградскому километров сто пятьдесят - не меньше. По дороге заехали в какой-то ресторан. Нас там ожидала странная пара – один был лыс и похож на актера Казакова, второй – вполне рядовой внешности, но украшенный звездой Давида, висевший на цепи. Размеру звезды позавидовал бы Розенбаум.- Это Ростислав, он из Кузни, - в очередной раз сказал Михаил. - Гоша, - представился лысый, - только не спрашивайте сын я Казакова или нет. Не сын, хоть и тоже актер. Как звали второго, я честно говоря, не запомнил.Встреча была абсолютно деловая. Обладатель звезды Давида просил у Михаила денег на открытие сети ресторанов в пику лужковским «Елкам-Палкам».- Название надо только понятное и простое, - заметил Михаил. – Ну, например…. Рост, как у вас в Новокузнецке столовые называют?- Столовые, - сказал я.- А проще?- Столовка…- А «пищеблок» не говорят?- Нет, - я покачал головой – Не говорят.- А прикольное название, «Пищеблок», - мечтательно сказал Михаил.- У меня уже и интерьеры разработаны - поехали ко мне, посмотрим.- Забирайте Ростислава, а я подъеду чуть позже, - Михаил посмотрел на часы и исчез.Мне деваться было некуда и я поплелся вслед за Гошей и ресторатором. У Гоши оказался красный Jeep «Wrangler». Я еле-еле поместился на заднем сидении – Гоша и ресторатор были парнями моей комплектности и размерности.Ресторатор жил в сталинском доме где-то в районе метро «Университет». Квартира оказалась забита народом, кто-то спал, кто-то играл на компьютере в «Варкрафт». Публика была молодая с какими-то знакомыми лицами.- Вот эта девчонка в ролике «Ригли Спирминт» снималась, вот тот парень тоже, - показал ресторатор, - Актерская тусовка, все мои друзья. Я кивнул головой, поздоровался и пошел на кухню, там наливали чай. - Может, курнешь? – поинтересовался ресторатор.- Нет, - отказался я.- А промокашку будешь? – не унимался ресторатор. - Это что?- Лист промокашки пропитанный чистым ЛСД, как «марка» кладешь под язык… У вас в Кузне нет?Если честно, я не знал, есть в Новокузнецке или нет «марки» и «промокашки», но на всякий случай сказал, что нет.- «Промокашка» - это тема, - мечтательно сказал ресторатор. – После нее на машине прикольно ехать – такое ощущение, что едешь по встречной. И сексом заниматься еще интереснее, видишь, как ты в женщину реально перетекаешь….- Извини, но мне с Михаилом еще дела надо решать…- Ну-да, ну-да, ты же с Кузни, - ресторатор налил мне кружку кофе.- Рост, Гоша, поехали, - нас ждут, - сказал Михаил.- Куда едем на этот раз? - спросил я.- В клуб «16 тонн», там Мазаев выступает.- Мазаев – это хорошо, - Гоша начал собираться.
* * *Возле клуба стояла большая толпа – народ давился за билетами на «Моральный кодекс».До концерта оставалось еще минут пятнадцать, когда к нашему столику подошел Мазаев. Обнявшись с Михаилом, он повернулся ко мне. Я уже предполагал, как меня сейчас представят и опередил всех:- Меня зовут Ростислав, я из Кузни!- Сергей Мазаев, лучший саксофонист России, - скромно представил себя Мазаев. – Меня к вам на какой-то конкурс красоты приглашают.- Ладно, ребята, простите, мне пора, - Мазаев исчез за кулисами.После концерта мы оставаться не стали, сели в «Мерседес» и поехали в сторону Мишиного дома.- Ну, что - может ты мне объяснишь, зачем ты меня пригласил? – поинтересовался я.- Как тебе сказать… - Михаил притопил педаль газа. – Есть у вас в Новокузнецке комбинат. ЗСМК. Я, вернее, мой банк, один из акционеров – пакет у меня небольшой, но мне совершенно невыгодно введение внешнего управления и появление на заводе Анатолия Смолянинова. Поэтому мне нужна серия публикаций в центральной прессе, написанная кузбасским журналистом. Материалы должны быть направлены против Смолянинова. Я очень хорошо заплачу… Один знакомый в Новокузнецке бизнесмен сказал, что ты парень без крыши в голове и хорошо известен в Новокузнецке. Ну, так как? Сделаешь?- Михаил, я не буду ничего писать.Михаил затормозил, внимательно посмотрел на меня:- А почему?- Со Смоляниновым я лично не знаком, но, прости, гадить против него не буду за любые деньги.- Надо же! - удивился Михаил. – Подумай до завтра.До его коттеджа мы доехали молча. Поднявшись в комнату, я сразу завалился спать.Наутро, когда я вышел к столу, Михаил уже сидел, пил кофе и читал газету:- Подумал? - Подумал. Результат тот же – отказываюсь.- Твой выбор – твое решение.К моему удивлению, Михаил компенсировал мои расходы и оплатил билет до Новокузнецка. Сам лично отвез меня до метро. Мы друг другу пожали руки – он внимательно посмотрел мне в глаза:- Интересный народ в Кузне живет.С тех прошло много лет. На Запсибе давно нет внешнего управления, комбинат выкарабкался и живет, по-моему, неплохо, о тех страшных временах переделов собственности сегодня уже снимают художественные фильмы. Недавно я залез в Интернет – банк Михаила жив до сих пор, да и он сам периодически возникает в публикациях «Эксперта» и «Коммерсанта» - значит все у него в порядке. Актер Гоша сейчас очень популярен, его фамилию – Куценко - знают, пожалуй, все. Мазаев поет, записывает диски. Только вот сеть ресторанов «Пищеблок» так и не стала конкурентом «Елкам-Палкам» Юрия Лужкова.
soblazn-mag.livejournal.com
История русского соблазна / Классный журнал / Русский пионер
21 марта 2018 12:00
Школьный учитель и писатель Дмитрий Быков решил научить нас тому, что он знает, по его мнению, сам, то есть соблазну 1831 в исполнении Александра Сергеевича Пушкина, а также всему, собственно говоря, дальнейшему соблазну. Приготовьтесь: скучно не должно быть. Должно быть упоительно.
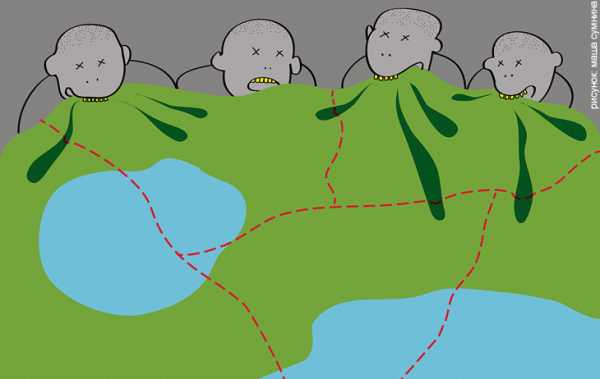
Формат «Русского пионера» не обязательно предполагает серьезный разговор. Нет, не всегда. Это бывает ненавязчивый треп членов элитного клуба, повод для спекуляций для уцелевшей прессы, которой больше делать нечего. Находятся люди, всерьез полагающие, что политик и писатель С. не любит женщин или, по крайней мере, не принимает их всерьез. Да принимает он! Просто «Русский пионер» для него своеобразная отдушина, возможность высказать мрачные мысли, приходящие в дурную минуту, или потроллить читателя в минуту, напротив, веселую. И тем не менее сейчас будет абсолютно серьезный разговор.
Хочется поговорить о том главном русском соблазне, который с такой изумительной наглядностью явил себя в 1831 году, когда Пушкин писал «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину»; и в 1863‑м, когда Герцен остался в полном одиночестве и реформы в России начали сворачиваться, не развернувшись; и в 1914-м, когда война стала главным средством сплочения страны вокруг власти (и в конце концов вызвала революцию), и в 2014-м, когда Крым стал наш. В 1968-м и 1980-м это почему-то не получилось, и именно это заставляет думать, что позднесоветская Россия являла собой принципиально новый этап в развитии данного социума, что социум стал умней, чем могла выдержать политическая система, и взорвал ее, как и после Серебряного века; боюсь, теперь этот уровень уже недостижим. Собственно, и к описанию этого русского синдрома я пришел именно тогда, когда впервые задумался: почему наше вторжение в Прагу в августе 1968 года не вызвало всенародного ликования? Литературное сообщество в каком-то смысле зеркало эпохи, капля крови, взятая на анализ, по выражению Марьи Розановой; тогда литераторы — по крайней мере, известные и одаренные — дружно взяли сторону чехов. Болеть за наших и против чехов в какой-то момент даже в хоккее стало неприличным. Допустим, в 1968-м появлялось полно искренних, а не только инспирированных писем в поддержку этого вторжения, и находились трудящиеся, которым оно действительно очень нравилось. Но 1980 год был уже при мне, и я отлично помню, что «Кабулнаш» не вызывал у нации никакого повального восторга. И не только у моей подлой нации, как явно шепчет про себя какой-нибудь новейший нацик, а у той советской нации, которая действительно служила поводом для интереса и зависти у остального мира. Никто не выказывал энтузиазма по поводу нашего входа туда, и не стоит объяснять это иссяканием пассионарности. Дескать, империя постарела, зубы затупились, и потому она не выразила радости от очередной экспансии, и именно поэтому вскоре развалилась. Ничего подобного: просто тогда уже были иные поводы для гордости. Гордились космосом, фильмами, великой литературой, даже спортом гордились, хоть он и не доминировал; платить за имперское величие цинковыми гробами… да еще если учесть, что афганцев никто сроду не завоевал… Тогда тоже много было разговоров про дальние подступы, на которых мы остановили врага; про то, что мы защищали нашу Среднюю Азию, что если б не мы — объяснял мне наш прапорщик уже в 1987 году, — то американцы сейчас бы там уже были, мы их опередили буквально на полчаса! Мифология была та же, но не действовала. Ни на кого. Даже на гопников — которым, кстати, реально светило туда поехать, и они, при всем своем бойцовском люберском нраве, совершенно этого не хотели.
Но ведь это было в позднем СССР, с его непредставимым сегодня интеллектуальным уровнем: гнили, но думали! В прочие времена, даже в столь продвинутом обществе, как шестидесятники XIX столетия, достаточно было нарисовать перед ними в воздухе мираж Русского мира (тогда это называлось иначе, скажем панславизм) — и все внутренние проблемы забывались, любая оппозиционность таяла, торжествовал в чистейшем виде ресентимент. Кстати, этого слова тогда не было тоже, ввел его Ницше в книге «К генеалогии морали» в 1887 году. Ницше подчеркивает, что ресентимент — не просто чувство обиды, зависти и неполноценности; нет, это целая нравственная система, построенная на этом чувстве. Это мораль рабов, потенциальных бунтарей, — противостоящая морали господ, то есть творцов и созидателей. И эта-то нравственная система — описанная у Достоевского в «Записках из подполья», — эта-то способность «извлекать самый сладкий сок из унижения» — она и стала российской системой морали, главным соблазном местной мысли. Мы в эту подпольность скатываемся при первой возможности, поскольку она очень уж сладостна. Конечно, каждый опьяняется чем умеет, у других наций другие наркотики, а этот соблазн — специфически русский: от него потом очень болит голова, он не всегда приводит к появлению качественных текстов (это надо быть Пушкиным, чтобы из любого повода делать хорошенькие стишки, звонкие, гладкие), но ощущения очень сильные. При героине (не от слова «героиня», а от слова «героин») тоже, говорят, сильные ощущения, а что гниешь потом заживо, так все умрем, нет?
Разумеется, во все времена находились люди, резистентные к этому соблазну: не просто особенно стойкие, а, скорее, очень умные, видящие спекуляцию. Толстой подошел к вопросу настолько честно, что Катков даже не стал у себя печатать восьмую часть «Анны Карениной», и Толстой, отказавшись вносить коррективы, вынужден был публиковать текст отдельной брошюрой (на чем только выиграл). Там он высказывается по горячим следам — только что отгремела волна солидарности с братьями славянами, новый приступ панславизма, новые мечты о завоевании Константинополя и проливов, вследствие чего Александр II опять стал мегапопулярен, герои Шипки сделались общими любимцами, а проклятых либералов и реформистов в очередной раз заклеймили. И вот как Толстой по всему этому энтузиазму прошелся: «Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам. Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия; видел и то, что много было людей, с корыстными, тщеславными целями занимавшихся этим делом. (…) Но притом было другое, радостное для Сергея Ивановича явление: это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович. И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху. (…) На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших “Славься”. Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обращал на них внимания; он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало его. Катавасов же, за своими учеными занятиями не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича. Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет. На первой остановке он перешел во второй класс и познакомился с добровольцами. Они сидели отдельно в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий, со впалою грудью юноша. Он, очевидно, был пьян и рассказывал про какую-то случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже немолодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий, в артиллерийском мундире, сидел на чемодане подле них. Четвертый спал. Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до двадцати двух лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен, избалован и слаб здоровьем; он, очевидно, был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом. Другой, отставной офицер, тоже произвел неприятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил обо всем, без всякой надобности и невпопад употребляя ученые слова. Третий, артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал:
— Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и сербам. Жалко. (…)
Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался к разговору Катавасова с добровольцами. (…) Старичок был военный, делавший две кампании. Он знал, что такое военный человек, и, по виду и разговору этих господ, по ухарству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошел только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. Но, по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова».
Сегодня, пожалуй, много опаснее высказывать собственное мнение, а потому я и цитирую Толстого так обширно. Он тоже, впрочем, предпочитал высказываться через любимых героев вроде старого князя Щербацкого: он у него осуждает и публичную благотворительность («Лучше, когда делают так, что, у кого ни спроси, никто не знает»), и массовый психоз в связи с братьями славянами. «— Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? — спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. — Кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь? (…) Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами». И Левин поддерживает его, а демагог, братец Сергей Иванович, рассуждает ровно в духе сторонников ДНР: «В восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию…
— Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал Сергей Иваныч с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. — А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.
— Это слово “народ” так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?»
Любопытно, что войне радуются наименее симпатичные Толстому персонажи романа — в частности, Вронская-мать, в молодости развратница, в старости ханжа: «Это Бог нам помог — эта сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно; и главное, говорят, ce n’est pas très bien vu à Pétersbourg. Но что же делать! Одно это могло его поднять. Яшвин — его приятель — он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его». Большинство русских романов XIX века — это главная особенность тогдашнего метасюжета — начинаются в салоне, а кончаются на каторге; в тогдашней жизни вообще не очень много локаций. Но иногда заканчиваются они на войне — это вариант бегства, выхода из тупика: куда, скажем, деваться Печорину? А Вронскому? Роман ведь о том, как Россия попыталась выскользнуть из-под власти и сбежать — как попытался Толстой сбежать из дома и погиб все на той же русской железной дороге, этом вечном символе исторической предопределенности. «У нас все переворотилось и только еще укладывается» — знаменитая фраза Левина, едва ли не самая цитируемая в советские времена; но уложилось-то на рельсы. Попытка бегства на свободу обернулась такой несвободой, что из нее вовсе уж не было никакого выхода; от одного Алексея, который ее не понимал, Анна попала к другому Алексею, который ею тяготился, и в результате все кончилось поездом, идущим на войну; не зря тендер этого паровоза так живо напомнил Вронскому (у него даже зубная боль прошла, вытесненная другой болью) поезд, под которым погибла Анна. Тот поезд, о котором другой автор, не слишком любимый Толстым, написал десять лет спустя: «Вся станция оцепенела от ужаса, когда мимо нее пронесся в вихре огня и дыма этот обезумевший поезд: паровоз без машиниста и кочегара, с вагонами для скота, переполненными солдатами, оравшими свои патриотические песни. Что ему было до жертв, раздавленных на его пути! Несмотря ни на что, он стремился к будущему, стоило ли обращать внимание на пролитую кровь! Он мчался во мраке, без водителя, словно ослепшее и оглохшее животное, которое погнали на смерть. Он мчался, нагруженный пушечным мясом, солдатами, которые, одурев от усталости и водки, орали во все горло патриотические песни».
(Кстати, почему Толстой его недолюбливал, несмотря на все сходство лейтмотивов и, замечу, равенство возможностей? Да именно потому. Как сказал Чехов, мы для него мелюзга, а Шекспир мешает; вот и этот, лучший из прозаиков Франции за последние три века, мешал; а так-то они, как видим, многое понимали сходно.)
Да, от войны Яшвину никуда не деться, ибо он разорен; и Вронскому — ибо он раздавлен; и Сергею Иванычу нечем больше утешиться, ибо демагогия его никому не нужна, а так он может опереться на демагогию патриотическую. Петербург, конечно, побаивается народного порыва — потому что чует, что национально-освободительное движение перерастет в просто освободительное, и многие сторонники ДНР сегодня надеются, что наберут разгона и вышибут либералов из Кремля, а всю Россию превратят в огромное Гуляй-поле, не забывая попутно о культе собственной личности. Но в Петербурге напрасно боялись — а барды ДНР напрасно надеются: ресентимент действует локально, недолго. И люди, подобные добровольцу с впалой грудью, не зажгут моря: они подались на войну именно потому, что у них ничего не получилось, и вряд ли потом получится. Ресентимент годится, чтобы отвлечь, а не чтобы увлечь. Ибо фальшивая его сущность очевидна любому, кто умеет задумываться: Леонтьев — это вам не Ленин.
Почему же этот русский соблазн так могуч, что и Пушкин не мог ему противостоять? Случай Пушкина — особый: когда Чаадаев делал ему сомнительные комплименты — типа, вот вы наконец национальный поэт, — едва ли ему это нравилось, ибо комплименты от Чаадаева, мыслящего столь отличным от него образом, могли восприниматься, скорей, как жестокая насмешка… А впрочем, кто знает? Конечно, нельзя рассматривать «Клеветникам» и «Годовщину» вне контекста; прежде всего — вне контекста отношений с Мицкевичем. Очень стоило бы написать о Пушкине и Мицкевиче отдельную, фундаментальную и непредвзятую работу, чего мы вряд ли дождемся в ближайшее время — как в России, так и в Польше. А между тем вне полемики Пушкина с Мицкевичем, вне контекста их сложнейших отношений нельзя читать ни «Медного всадника», который весь был ответом на третью часть «Дзядов» и конкретно «Ustep», ни ядовитое стихотворение Мицкевича «К друзьям-москалям», в которых Мицкевич отвечает именно Пушкину, причем наносит удары ниже пояса. Отношения были натянутые, взаимно уважительные, крайне сложные сами по себе и вдобавок осложненные ревностью. От прекрасной, хотя и несколько брутальной полячки Каролины Собаньской Мицкевич добился большего, хотя и простился с ней одним из самых резких сонетов — «Прощание» (в некоторых отношениях оно предсказывает «Дрянь» Майка Науменко). Пушкин ограничился шедевром «Что в имени тебе моем?», явно платоническим. «Что я в сравненьи с ним?!» — восклицал Пушкин, услышав французские импровизации Мицкевича. «С дороги двойка — туз идет!» — говорил он, встречаясь с ним; тот отвечал в тон: «Козырна двойка туза бьет». Польша меньше России, но Мицкевич — поэт и мыслитель не меньше Пушкина; по крайней мере, роль его для поляков не меньше пушкинской, в известном смысле христологической. Тут — помимо русско-польской драмы — наличествовали обстоятельства взаимной ревности, конкуренции, уважения, зависти («Зависть — сестра соревнования, следственно хорошего роду», — учит нас Пушкин), да много всего. Некоторые приплетают сюда тот факт, что Пушкин сочинял оба эти шедевра геополитической мысли, находясь в Царском Селе, где еще так свежи были воспоминания о 1812 годе: «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас…». Иные припоминают, что «Клеветникам» адресовано французам, кои собирались вмешаться в «спор славян между собою» — естественно, на польской стороне; Пушкин, для которого память 1812 года была священна, решил им напомнить о «нечуждых им гробах». Есть, наконец, мнение, что насчет 1812 года Пушкин очень хорошо все понимал — «Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра», — но это для себя и Александра Тургенева, которому была читана последняя глава «Онегина». Но в 1831 году Пушкин переживал кратковременный роман с государством: женитьба всегда сопутствует подобным интенциям и даже, кажется, вызывает их (у Пастернака в 1931 году было все то же самое, захотелось «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком»). Хочется основательности, лояльности, уверенности в завтрашнем дне. Пушкин за это заплатил ужасно — не только ссорой с, например, Хитрово, чье мнение ему было в значительной степени по барабану, но и расхождением с Вяземским, справедливо замечавшим, что Пушкин сам с легкостью накидал бы остроумных опровержений на все свои аргументы. Ахматова всегда брала сторону поэта, замечая: «Вяземский прошипел в дневнике, а Пушкин сказал на всю Россию»; на это тоже легко накидать опровержений — у Вяземского не было возможности тогда публично возразить Пушкину, да и не хотел он обижать поэта, и вообще — если следовать этой логике, она тоже в своих потаенных стихах и в «Реквиеме» высказывалась вполголоса, а на всю Россию гремел Лебедев-Кумач; и кто после этого прав? Пушкин в 1831 году просил у правительства разрешения издавать политический журнал — самого что ни на есть патриотического направления, чтобы окорачивать «их», Европу; ровно то же говорил Тарасенкову Пастернак: «Почему они делают свою пропаганду так топорно? Почему не позовут нас — мы бы им сделали лучше…». Он еще не понимал тогда — как отлично понимал в пятидесятые, — что им не нужно лучше; им надо именно топорно, в этом их сила. Они боятся патриотической инициативы больше, чем либеральной; им не нужен честный патриот, а годится только вороватый, — потому что честный патриот в первую очередь сметет их. Потому-то крестьянам, партизанившим в 1812 году, не была дарована вольность, которой лучшие умы так ждали. И Пушкин со своим лоялизмом был лично одобрен — но письма его перлюстрировать не перестали, и вот тогда до него дошло: «Холопом и шутом не буду и у царя небесного». Да поздно. Все уже было решено — того самого 8 сентября 1826-го, когда царь сказал: «Это МОЙ Пушкин». Не зря перед смертью Пушкин сказал: «Был бы весь его», — сказал не то с досадой, не то с горькой радостью от того, что хотя бы в смерть сбежал от такой вероятности.
А весьма возможно, что правы те — среди них есть филологи первоклассные, — кто считает: поэт и сам — власть и потому понимает власть в некоторых ее мотивах; поэту естественно стремиться к расширению своего языкового ареала, и утрату кусков империи он воспринимает как утрату части аудитории. Так Бродский сочинил «На независимость Украины», одно из слабейших своих стихотворений, несмотря на всю ярость риторики. Признаться, ярость вышла довольно жалкая — и политически, и поэтически. Но что простительно поэту… Пушкин сам писал, что поэтически склонен понять поляков, но «их надобно задушить, и чем скорее, тем лучше». У Пушкина были свои гефсиманские минуты, свой соблазн — против которого он не устоял; значит ли это, что, любя его, мы должны любить и его соблазны, и его падения? Писарев превосходно оценил силу пушкинских стихов 1831 года: «Попади только это стихотворение во Францию, тогда, само собою разумеется, все крикливые французские депутаты, узнавши, что в России существует воинственный и сердитый стихотворец, monsieur Poushkine, тотчас понизили бы тон и немедленно уразумели бы, что с Россиею ссориться опасно, ибо эта Россия может засыпать Францию растянутыми стихотворениями, тщательно переведенными с русского на французский».
В чем же дело, почему этот соблазн так бессмертен — и до сих пор так неотразим? Почему любое революционное движение — и не такое слабое, как в 2012 году, — легко перенаправить и придушить с помощью внешней агрессии, с помощью ответа на внешнюю угрозу, подлинную или мнимую? Почему самый надежный русский оппозиционер превращается в отъявленного имперца, стоит Украине отвернуться на Запад? Почему рейтинг власти немедленно твердеет, стоит ей пальцем указать на вероятного противника, — и только в 1968-м и 1980-м это не сработало, потому что появились «образованцы», столь ненавистные Солженицыну? Были ли это в самом деле вырожденцы, лишенные патриотического чувства, — или просто народ России массово поумнел и уже не купился на эту дешевую разводку, а сегодня одурел настолько, что готов верить в фашиствующих бандеровцев и купленных Госдепом внутренних врагов? Правду сказать, Россия никогда не была такой умной — и такой массово умной, — как в 1968-м; правда и то, что такой растленной она тоже никогда не была. Но растленными были одни — щедро демонстрировавшие двойную мораль; те, кто выходили на площадь, в том числе с малолетними детьми, — как раз и были пассионариями. Пассионарии не подписывают «писем трудящихся». У них другие методы. И устраивать «буйство с мандатом на буйство», по словам Пастернака, им тоже не свойственно, даже если для этого буйства им специально выделят соседний регион. Туда устремляются не пассионарии, а люмпены.
Но в наши времена, увы, соблазн действует, как никогда. Подавляющее большинство российского населения все понимает — как понимает и героиновый наркоман, — но не может отказать себе в ресентиментальной зависимости, в повторении тех самых чувств: «Да, мы грязные, мы бедные, мы измученные, но СЕЙЧАС МЫ ВАМ ВСЕМ ПОКАЖЕМ, потому что, кроме нас, показать некому!» И они покажут то единственное, что у них осталось, — готовность умирать, потому что жить им незачем; потому что они либо продулись, как Яшвин, либо потеряли самое дорогое, как Вронский. Кто не умеет жить, тому умирать не штука. У этих людей нет другого соблазна, кроме как пополнить ряды очередной ЧВК: деваться-то куда? Не власть же опрокидывать? Еще посадят, а это хуже смерти.
В этих обстоятельствах и поэту нетрудно сдаться: он будет сопротивляться долго, но в конце концов вес страны окажется больше. Помните, как говаривал другой поэт, отошедший, к сожалению, от литературы и посвятивший себя делам куда более мрачным: «Может ли отдельный человек выдержать вес всего Советского Союза?» Не может. Нынешняя Россия весит гораздо меньше, но и ее вес выдержать нелегко: когда вся пропаганда обзовет тебя мерзавцем и все воинственные домохозяйки дружно заклеймят в фейсбучике, — что скажешь?
Я знаю только то, что скажу лично я: НЕТ. НИКОГДА. Я знаю, чем кончается этот соблазн, и если я ему поддамся — пусть самое имя мое будет проклято.
Но этого вы, повторяю, не дождетесь никогда, никогда, нет. И если даже одно это «Нет» останется от меня — как хотите, это не так мало.
ruspioner.ru









